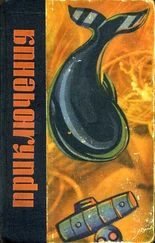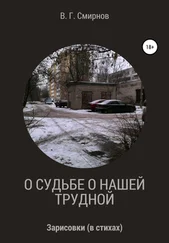В такие октябрьские ночи, наполненные мельканием звезд сквозь туман, они в своем дворике на Лукьяновке шинковали капусту. Мать выносила большой стол и корыта на улицу, чтобы не беспокоить отца стуком ножей. «Отец занимается». Она, лишь в двадцать лет научившаяся читать, со священным трепетом относилась ко всему, что делал отец. Она прижимала палец к губам и ходила на цыпочках, когда отец затворял за собой фанерную дверь своего маленького, выгороженного в хате отсека, она даже прекращала мыть полы и бросалась выжимать тряпки, тихо, чтобы не звякнуть дужкой, выносила во двор ведра. О, Богдана Карповна сумела внушить им, что отец — это их везение, счастье залетное, бесценное. Позже, позже догадается Шурка о спасительных уловках матери. «Данка за пана вышла, за пана!..» Они рубили капусту с хрустом и упоением, им светил огонь керосиновой лампы из окна, где отец читал старые книги или чаще всего просто сидел, глядя в стенку, а наверху моргали звезды… И этот осенний блеск навсегда связался для Шурки с морозным и сочным хрустом налитых, наполненных упругой силой кочанов.
Река ведет их своим перекатным шумом. Маленький глазок для одной звезды расползается и превращается в полынью. Тяжелые, крепкие октябрьские звезды провисают в разрыве тумана. Становится видна узкая, заросшая лента дороги, уходящий вниз к воде кустарник справа и мрачная стена леса по левую руку. И по мере того как возвращается к Шурке способность видеть, стихают, съеживаются запахи; но не настолько, чтобы он не смог почувствовать посторонний, сложный, смешанный запах креозота, которым пропитывают шпалы, мазута, пролитого из букс, и кокса, выброшенного под насыпь из паровозных колосников.
Ветерок явственно доносит эту смесь. Но Шурка не успевает предупредить Короната — ездовой сам, почуя близость «железки», сворачивает в сосновый бор, в сторону от невидимого еще моста, где в высокой насыпи нарыты окопы, где в бревенчатых блиндажах, не раздеваясь, готовые ко всему, спят, выставив часовых, охранники. Скользя между высокими стволами, партизаны уходят все дальше от реки. Шурка теперь покидает свое место за таратайкой и выдвигается к Павлу. Наступает его час: форсирование «железки». Перескочить через насыпь и рельсы с легкой таратайкой — не штука, это можно сделать почти в любом месте. Проскочить через охраняемую насыпь— вот штука.
Шурка зачем-то проверяет, плотно ли застегнуто его изорванное во время недавнего бега пальто, вытирает о сукно ладони. Нет-нет, волнения и страха, как в ночном прорыве, когда он бежал, словно телок на привязи, за тележкой, ничего не видя и не понимая, он сейчас не ощущает! Сейчас он при деле, привычном и ясном. Надо высмотреть и, главное, выслушать дорогу, как выслушивал он, подобравшись под охраной друзей к мостам или караульным будкам, разговоры патрулей.
Они останавливаются, не дойдя до поляны, обозначившейся за соснами легким просветом. Здесь оккупанты вырубили весь бор вдоль железной дороги, метров на пятьдесят в каждую сторону— для лучшего осмотра. Это мертвая зона, утыканная низкими пеньками, как борона — зубьями. И всякий, кто появится в этой зоне, будь то малец-пастушонок или заблудившаяся старуха с грибным лукошком, «подвергается немедленному расстрелу»… Пеший патруль или пулеметчики с дрезины или охранной платформы, которую толкает перед собой паровоз, открывают огонь без предупреждения, как по зверю.
Сегодня по рельсам бродит смерть, неразборчивая и полуслепая.
— Ждешь здесь,— командует Коронату Павло.— Мы с Домком идем щупать.
— Гляди, Павло. Звезды вон залихтарили… Посветлело трошки.
— Ладно, не бубни под локоть.
Шурка направляется следом за Павлом, различая впереди неясную, скользящую фигуру. Кажется, будто это тень от другого, невидимого человека — до того она бесшумна, невесома, пронырлива. И веточка не хрустнет под ногой. Павло идет побежкой, ссутулившись, на подогнутых ногах, всегда готовый к прыжку.
У выхода на порубку они останавливаются, прижавшись к сосне. Клейкий, пахучий натек смолы вцепляется в щеку Шурки. Порубка еще накрыта зыбким покрывалом тумана. Белая рваная ткань лежит на черных надолбах пеньков и на обрубленных корявых сучьях, как на опорах. Вдали над пеленой чуть проступает черной полоской насыпь, но она сливается с громадой соснового леса на той стороне. Хорошо еще, что здесь имперские железнодорожные чиновники и офицеры транспортной полиции, руководившие порубкой, польстились на прекрасный строевой лес и вывезли все подчистую, а не оставили завалы, как в иных местах, иначе к насыпи было бы трудно добраться даже пешим.
Читать дальше