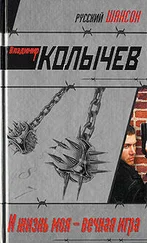Собиралась пожить, а уехала сразу после рождества. — Видишь ли, дитя мое, видишь ли… — Мать объясняла витиевато, и ничего путного в этих объяснениях Ирена не уловила. Уехала на удивление поспешно. Может, вдруг убоялась своих пророчеств о возвращении Яна еще перед рождеством? Может, стыдно стало, что так легко уверовала в красочный чудесный сон? Белые кони, благополучное окончание дальних странствий. Уехала…
Но это еще не был конец. Пришли сюда в колонне по пять и так же в колонне по пять уйдут. Труп Бжеского был включен в утреннюю сводку. До вечернего рапорта в эту сводку никто не имел права вносить изменения. По приказу Вольфа трое узников вытащили адвоката из ямы. К счастью, яма в этом месте оказалась неглубокой, а то Вольф начал терять терпение, даже заулыбался, что было грозным предостережением для живых.
Сели возле елки. В прошлом году отец неудачно закрепил ствол деревца. Помнишь, Витольд? Я начала вешать шарики, а елочка на меня свалилась. Пусто и тихо. Обед скромный, наша утка-одиночка пусть подождет, поживет еще до возвращения отца. Запеку ее с яблоками. Явилась Томасева, увидала в окно, что мамаша наконец уехала. С порога заулыбалась, запричитала, само воплощение рождественской благостности и покаяния: — Вы знаете? Так тяжело было у меня на душе, что дважды бегала исповедоваться… — подскочила к Ирене, попыталась поцеловать ей руку, — какая-то нечистая сила меня тогда обуяла, бес, что ли, попутал? Может, потому, что мы годами у евреев в кармане сидели. Занавески, обувка, швейная машина — все у евреев, даже доски на постройку хаты и те от Гольдштерна. В кредит давали, врать не буду, иногда брали процентик, но в кредите не отказывали — при деньгах были, а я к ним всегда с поклоном и пустой мошной. Может, отсюда и взялось тогда мое греховное ожесточение? Ксендз отчитал меня, и был прав. Пани Ирена, столько лет мы знакомы, и неужели теперь из-за одной моей глупой промашки должны раззнакомиться? — Томасева посидела часок, спела «Нынче в Вифлееме радостная новость», прокляла голод, мороз, войну, Гитлера и отбыла восвояси.
Возвращались в колонне по пять, и снег скрипел, а небо было чистое, отполированное морозом. Когда приблизились к широко распахнутым воротам, раздался окрик: — Mützen ab! Шапки долой! — Но Ян и широкоплечий торговец из Замостья имели право не выполнять этого приказа, остаться в шапках, так как руки у них были заняты — они несли окоченевшее на морозе тело адвоката. — Гады, только и радости у меня сегодня, что шапку перед ними не сниму.
Постель была уже разобрана, когда Витольд выскользнул из комнаты. Ирена не заметила его исчезновения. А потом заскрипело потолочное перекрытие. Ирена присела на кровать, слушала и вспоминала ту ночь, когда Ян пробрался на чердак. Значит, круг замкнулся. Неужели мы к этому окончательно приговорены и нет пути назад? — с ужасом подумала она, пряча лицо в ладонях. Витольд появился через несколько минут и, не глядя на мать, начал быстро раздеваться. — Что ты там искал? — спокойно осведомилась она. — Где? — Не притворяйся, я же знаю, что ты был на чердаке. — Подождала, пока он снимет рубашку и юркнет под перину. Хоть немного к ней приблизился, и на том спасибо. — Ты продрог там… — прервала она затянувшуюся паузу. — Вовсе нет, дрожу от чего-то другого… — От чего же? — Не знаю, но не от холода. — Ирена погладила его по голове, все отчетливее чувствуя, как отделяет ее от сына этот холод, принесенный с чердака. Сперва Ян там замерз, а теперь все это передалось Витольду. Ему ли одному? — Само по себе ужасно, что даже родной матери я словом не обмолвилась о нашей тайне, ведь это только нас касается… — шептала Ирена, как будто желала этими словами убаюкать сына. И вдруг, словно кто-то подсказал, что если когда-либо и придется ей свалить эту тяжесть, признаться в опасных мыслях, которые лишают сна, то уж, пожалуй, лучшего момента, чем сейчас, она не найдет, сию минуту должна все высказать. Снова положила руку на теплый лоб Витольда. — Как полагаешь, для нашего Яна это по-прежнему важно? И он похвалил бы нас, если бы мы довели до конца то, что он не успел завершить? — Я думаю, что для отца это по-прежнему важно, — услышала она уверенный голос сына. — И я готов в любую минуту поехать к Розенталям. — Поехать, поехать!.. — воскликнула она с внезапным раздражением, сама не зная, почему ее задела радостная оживленность доселе хмурого Витольда, почему причинила ей боль его демонстративная готовность. — Поехать, но это будет лишь первый шаг. Ты подумал, в каком мы положении? — Она-то часто думала. Словно все глубже и глубже заходила в какую-то реку, но, едва дно ускользало из-под ног, страх отрезвлял, и она снова оказывалась на берегу. А может, потому и раздражена, что Витольд не понимает ее страха, не хочет ей этого страха простить. Четыре едока — не два, а с деньгами совсем плохо. — Есть у меня бабушкины пятирублевки, но ты должен помнить, что они предназначены исключительно на спасение отца. Вдруг появится какой-нибудь новый Шимко? Поехать… А тут дрова на исходе, и торфу осталось столько, что через две недели нечем будет топить печку. Попробуй теперь пожить на чердаке в такой трескучий мороз… — Тогда зачем заговорила о тайнике? — спросил Витольд и хотел повернуться лицом к стене, мать задержала его рукой, глядя ему в глаза: — Подождем чуть-чуть, дай мне еще немного времени на размышления.
Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)