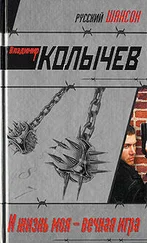— Устраивайся поудобнее… — она пододвинула к нему стул. — Чем тебя угостить? Есть у меня еще немного хорошего чая. Английского. Леон купил в Замостье, когда еще удавалось кое-что достать и можно было туда ездить без риска для жизни. Подожди, схожу на кухню за кипятком. — Витольд остался один в комнате, и сразу же одолели его тревожные мысли. Он не надеялся, что в такую пору застанет доктора, но где его дочь? Доба Розенталь вся в черном. Может, в этом доме беда?.. Донеслись возбужденные голоса из передней, кто-то ссорился: — Ах, Файвель, я тебе говорю, что ты уже не еврей, а пустое место. Для тебя талес то же, что диагоналевые штаны. Штаны? Если бы ты хоть на эту диагональ сумел заработать. — Дай ты мне жить, отец… — Жить? Так я твою жизнь отравляю? Если говорю, что ты ни мозгами, ни руками не шевелишь, то, значит, я тебя убиваю? Ты умрешь с голоду, Файвель, а перед смертью от голода свалишься… — У меня своя голова, отец… — Ах, если у тебя есть разум, то я не Якуб Пятьминут, а Герш из Острополя. — Теперь Витольд услыхал спокойный голос Добы Розенталь: — Пан Пятьминут, вам непременно надо ссориться возле моих дверей? У меня гость, и мне неудобно. — Она вошла в комнату с чашкой на подносе. — Чем богаты, не стану же тебя черствым хлебом угощать. — Витольд никогда еще не пил из такой изящной чашки. Рука у него заметно дрожала, когда брал со столика эту белую хрупкую вещицу. — А ты не боялся прийти сюда? В наши зачумленные дома? — Чего бояться? Я приехал по важному делу. Никакого письма не привез, ведь самые безопасные письма те, что записаны в голове. Я могу все сказать хоть сейчас, но лучше, чтобы при этом был пан Леон. — Она молча смотрела на него, и постепенно ее взгляд делался все холоднее. Как будто наконец догадалась, с чем Витольд приехал, и этой догадкой была сражена. Долго молчала, уронив голову, и молча подошла к окну. Лишь через какое-то время он услыхал ее спокойный голос. Придерживая занавеску, женщина вглядывалась в серость за окном и говорила, обращаясь не к Витольду, а, скорее, к этой еврейской улице на окраине городка: — Здесь когда-то была голая земля, и в дождливую погоду невозможно было проехать на телеге — колеса увязали в грязи. Но едва мы здесь поселились, улицу начали мостить, и Леон шутил, что специально для нас делают удобную дорогу. А когда родилась Саба, я брала ее на руки и подходила к этому окну. Взгляни, дочка, вымостили камнями мостовую, расставили фонари, красивая теперь у нас улица. Так ей все показывала, пока она не научилась ходить, говорить, смотреть без моей помощи. Когда-то я думала: здесь нам живется обыкновенно, то есть хорошо и плохо. Теперь думаю иначе: здесь жилось нам очень хорошо. Столько тут всего пережито, что сама я стала чем-то вроде этого еврейского дома. Можно его сжечь, разрушить, но ни на какое другое место перенести нельзя. — Доба Розенталь вдруг смолкла, и Витольд услыхал лихорадочный шепот, доносящийся из передней. Шепот, шепот, а потом из этого шепота вырвался голос, полный щемящей тоски. Сильный, здоровый голос, и одновременно такой, каким прощаются с жизнью. Пела женщина:
О, мой несказанный, о, мой долгожданный,
Ты и знать не знаешь сам,
Что на свете кто-то плачет по ночам.
Что распухли веки у одной Ревеки
И она все время ждет,
Что ее один добрый господин
Отсюда увезет… [1] Перевод А. Эппеля.
— Тихо, ша, глупая женщина, иди кормить ребенка. Ты от Файвеля заразилась безумием! — загремел мужской голос. Доба сделала несколько шагов к дверям, в передней все стихло. Поэтому она остановилась на полдороге и только теперь взглянула на Витольда. — Это Ревека. Иногда я пытаюсь ее понять, но это нелегко. — Доба вздохнула, как бы сожалея о том, что характер Ревеки Пятьминут столь сложен. — Так в ней жизнь перемешалась со смертью, радость с печалью, добро со злом, что одному богу известно, что получится из этой неразберихи. — Она придвинула стул, села напротив Витольда и холодно воззрилась на него. — Не знаю, с какой вестью ты прибыл, но знаю, зачем Леон в Избицу к твоему отцу ездил. Я сказала тогда, если понадобится, повторю сегодня: жили мы тут вместе и останемся вместе.
Витольд, словно окаменевший, сидел над своей чашкой из тончайшего фарфора, в которой уже давно остыл чай. Он перестал пить, когда начался этот странный монолог о еврейском доме, который нельзя перенести в другое место. Витольд совершенно не знал, как реагировать на глубоко потрясшие и удивившие его слова, которые не содержали никаких тайн, но все же были загадочны. Мощеная улица. Есть над чем задумываться! Булыжник — это булыжник. Фонари — только фонари. А о смерти стоит ли философствовать, если и безо всякой философии ее можно теперь повсюду встретить?.. Дверь распахнулась внезапно, широко, Витольд оглянулся и увидал Сабину. Это Сабина, подумал он, хотя лицо девушки не походило ни на одно из тех лиц, которые он извлекал вчера из глубин памяти или когда-либо видел во сне. Это, конечно, Сабина, подумал он. Глаза Добы Розенталь посветлели, помолодели. — Наконец-то, а я уже о тебе беспокоилась. Почему пан Хаубен так задерживает вас на занятиях? Разумно ли из-за истории Польши или теоремы Пифагора наткнуться на жандармов? — Это была уже совсем другая Доба. Та, печальная, примирившаяся с судьбой, осталась у окна. Может, еще любуется своей прекрасной, проклятой мостовой как своим последним путем. Другая Доба шла, улыбаясь, к дочери, и даже черная одежда казалась уже не такой траурной. — Посмотри, кто к нам приехал! Помнишь Витека из Избицы? — Сабина откинула волосы со лба и взглянула с любопытством на Витольда. — Ой, мама-мама, это было сто лет назад. Я помню какого-то мальчика, который порвал штаны на заборе и долго плакал. — Она присела на корточки у его ног и завертела головой, словно была у фотографа и не знала, в какой позе ей лучше сниматься. — А ты меня помнишь? Припоминаешь? — Ее звонкий голос прозвучал как эхо, донесшееся с далекой планеты. Ничего он не помнил, ничего не мог припомнить, но голос этот не был чужим. Витольд готов был поклясться, что голос этот не с запуганных еврейских улочек, по которым люди пробегают крадучись, боясь собственной тени. И не из этого дома, где слышатся молитвы или перебранки, плач или странные рассуждения о булыжниках и покосившемся фонаре. Этот голос оторвался когда-то от счастливой земли полетел стремглав к далекой лучезарной планете, а теперь на грешную землю вернулся. — Помнишь? — Я тебя помню… — ответил он, не избегая взгляда девушки. И так ему было теперь хорошо, так легко, точно этой святой ложью он искупил все свои грехи. — Видишь, он тебя помнит! — обрадовалась Доба, и мина у нее была малого ребенка, стремившегося поверить в самую неправдоподобную сказку. — Он ничего не помнит, он врет… — Сабина вскочила на ноги, взглянула с иронией на Витольда, а Витольд спокойно принял этот возглас. Счел добрым предзнаменованием и порадовался, что Сабина так легко отгадывает его мысли… В передней раздался трубный глас Якуба Блюма: — Господи, где Мордехай? Нет Мордехая. А они ждут, они еще способны ждать. Бог Авраама, Исаака, владыка наш, ты избавил народ избранников твоих из плена египетского, так избавь же нас от пагубной надежды, ибо надежда эта, как опиум, затмевает наш разум ныне, когда надо с чистыми помыслами встать на краю своей могилы. Нет для нас никакой земли обетованной, где можно найти прибежище. А они вертятся на кишащих блохами матрасах, не спят ночи напролет и только думают, как бы попасть в новый Адуллям. С вершины пророк Моисей охватил взглядом землю обетованную, а теперь даже с этой вершины величайший из пророков не узрел бы ни единого деревца, имя которому — спасение. Нет Адулляма, нет спасения, а сплошные вши, отверстые могилы на кладбище, жандармы и страшная дороговизна. Так куда же дальше? А они притворяются, будто не ведают, что их ждет, а они удивляются, что теперь каждый день надо бодрствовать, как в Судный день, бодрствовать в раскаянии и смирении. О господи, сделай так, чтобы мы не были слепыми. И еще сверши, чтобы камни, на которых мы здесь сложим головы, превратились по воле твоей в камни мостовой Иерусалима…
Читать дальше

![Джек Вэнс - Кларджес [Вечная жизнь, Эликсир жизни]](/books/44619/dzhek-vens-klardzhes-vechnaya-zhizn-eliksir-zhizni-thumb.webp)