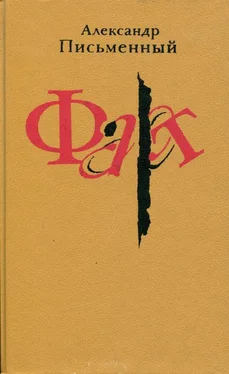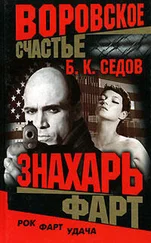— Джильда, перестань! — закричала Зинаида Сергеевна.
Собака встала, сделала несколько шагов, печально помахивая хвостом. Потом посмотрела на дверь и снова завыла, подергивая кверху голову, протяжным, глухим звериным воем. Зинаида Сергеевна больше не останавливала ее…
Потянулись однообразные дни. Приходили письма от Иннокентия Филипповича. О своих делах он ничего не писал. Даже о том, из-за чего его вызывали. Иногда он звонил по телефону и шутил сытым, веселым голосом, даже тогда — Зинаида Сергеевна чувствовала это, — когда он был чем-нибудь расстроен. И Зинаида Сергеевна, вместо того чтобы сказать ему о самом главном — о своей тоске, переставала слышать от волнения и бестолково кричала в трубку:
— Иннокентий, ты слушаешь? Иннокентий, тебе слышно? Отдай белье в стирку.
В то лето часто горели леса вокруг Косьвы, и однажды, когда огонь угрожал высоковольтной передаче облгрэса, дающей энергию и заводу и городу, Муравьев и Соколовский ездили тушить лес.
Ранним утром они поехали на грузовике. Было безветренно, и солнце, не успев еще подняться над лесом, жарило, точно в полдень. Работы на лесном пожаре велись вторые сутки. Всю дорогу Соколовский волновался, как бы огонь не сбили до их приезда. Муравьев подсмеивался над ним, говорил, что у Соколовского психология не пожарного, а поджигателя и что он, Муравьев, и копейки не дал бы за страховое общество, если бы такие люди, как Соколовский, состояли в пожарной охране.
Соколовский не слушал его, возбужденно вскакивал с места и, нагнувшись над бортом грузовика, орал шоферу в разбитое окошко кабины:
— Сережа, нажми! — а затем валился от рывка машины на скамейку.
Грузовик остановился возле горящего леса. Тяжелый серовато-желтый дым поднимался над лесом и медленно уползал в сторону. Поминутно, как от взрыва, из однородной пелены вырисовывались черные дымные клубы, окрашенные багровым пламенем. Трещали ветви. Огонь ревел порывами. С грохотом где-то в глубине падали деревья.
А на опушке леса росли отдельно три сосны, и чуть дальше стояла мачта высоковольтной передачи. Соколовский и Муравьев вылезли из грузовика. В это время над травой пробежал слабый дымок, затем обвил подножия сосен, и тотчас до верха взлетел по стволам сноп пламени. Сосны загудели, затрещали, потом сразу почернели сучья и стволы, и все три дерева засветились в дыме и пламени, как нити в электролампе.
Десятка три полуголых людей двигались на опушке леса. Тела их блестели от пота. Дым поминутно скрывал то одного, то другого, то сразу так плотно завешивал широкий луг, что все пропадало за его серой клочковатой стеной — и огонь, и лес, и люди. Никто из работающих на опушке не замечал того, что огонь пробрался в тыл.
Соколовский быстро скинул пиджак, намочил носовой платок в кадке с водой, выдернул топор, воткнутый в сосновый пенек, и ринулся с нечленораздельным воплем в самое пекло.
— Иван Иванович! — закричал Муравьев.
Но Соколовский не обернулся.
И тогда Муравьев побежал за ним к трем соснам, пылавшим, как сухие поленья, поставленные в печку торчком, а за Муравьевым бросились остальные люди из их отряда.
Весь день они рыли канавы, рубили просеки, косили сухую траву. К ночи прибыла свежая смена. Кто мог, остался на ночь с новыми людьми, остальные приготовились к отъезду.
Муравьев велел снять с грузовика скамейки, в кузов набросали скошенной травы, и человек двенадцать развалились на ней, опаленные, пропахшие дымом и грязные от копоти и земли.
Грузовик побежал по лесной дороге, переваливаясь на ухабах и покачивая свой живой груз. От травы пахло сухой полынной горечью и дымом. Дымом пахли руки, одежда, дыхание соседей, но сквозь этот запах дыма пробивался настойчивый и сильный запах травы. Травинки кололи ноги сквозь носки, и, поворачивая голову, Муравьев кололся о траву щекой. Он лежал рядом с Соколовским и при толчках автомобиля чувствовал его плечо. Ночь была тихая и ясная, и было не очень душно. Многие уже храпели, и только двух молодых парней из вилопрокатки не брали ни усталость, ни сон. Они стояли у кабины грузовика и орали во всю глотку разухабистые частушки:
Чай пила, самоварничала,
Всю посуду перебила, накухарничала…
И затем, нарушая порядок частушки:
Эх, петь будем, гулять будем,
Смерть придет — помирать будем.
Кто-то из неспавших сказал громко в темноту:
— В клетку бы нам таких соловьев!
Читать дальше