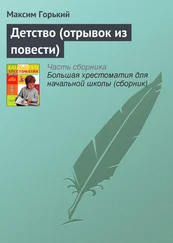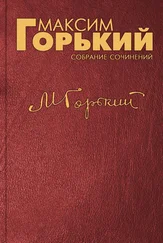Рёдер положил конец застолью, иначе сказать, он рывком поставил дверь вертикально и перекинул ее на другую сторону. Мышья рать заметалась, заскользила, обратилась в бегство. Кто не успел своевременно встать на все четыре лапки, тот угодил под пресс. А давление на пресс осуществлял голодный всем своим весом, вернее, недовесом, к которому прибавились ярость и гнев. Тамара перестала смеяться. С узелком и корзиной она стояла перед входом в овин. Она видела, как беснуется мужчина, но вмешиваться не стала. Она дала ему отбушевать. На это ушло много времени, слишком много, еще и потому, что перед входом в овин стояла девушка, с корзинкой и узелком, и потому, что в глазах у нее плясали веселые чертики.
Погибли все, — заявила она, когда он наконец спрыгнул с двери. Его ярость отбушевала. Его мужское тщеславие продолжало бурлить.
Бросает хлеб перед дверью, хотя знает, что в доме никого нет.
— Я просто хотела осмотреть наше ложе. Нашу постель. Очень красивое сооружение.
Ей любо ходить по острию ножа.
— Повтори, что ты сказала!
— Чего тут повторять? Я только думаю, что если кто боится мышей и пленных фашистов, а деться ему некуда, тот должен хочешь не хочешь подкармливать малюток, чтобы дружить с ними.
Вот и выглянуло лошадиное копыто. Нечисть, разбойники, казни земные, немцы — все от фашистов.
— Пока ты ходил, вдруг появилась мышка. Потом еще одна, потом еще. Потом нагрянули целые мышиные полчища. И много до омерзения. И тут я испугалась. И пожертвовала мышам свой кусок хлеба. Свой, понимаешь! Бери! Это твой. Хлеб моих соотечественников. От себя оторвали. Ешь, а потом я буду плясать на тебе, как ты — на мышах.
Поди разберись в этих русских. Они разговаривают с тобой, как не по возрасту умные дети. Не встанешь на колени сам, они бросят тебя на обе лопатки. Как во французской борьбе.
— А если я предложу тебе половину моего куска?
— Смотря по тому, как ты это сделаешь.
— Дели сама, Тамара.
С этим предложением она согласилась. Она разломила кусок хлеба. Но всякий раз, когда кто-нибудь ломает хлеб руками, получаются два неравных куска. И всякий раз, когда женщина ломает хлеб для себя и для мужчины, она отдает мужчине больший кусок. Так говорится в календаре для крестьян. Неписаном — на всех языках. Так случилось и на этот раз. Он поднял котелок с чистой колодезной водой и подал ей.
— Чтоб тебе достался хороший муж. Который умеет больше, чем ты знаешь.
Она не торопилась выпить. Она про себя обдумывала тост, не сводя с мужчины пытливого взгляда.
— Не возражаю, — промолвила она наконец. — Такому всегда рады.
Лишь чувствуя на себе ее пытливый взгляд, он сообразил, что его тост носил двусмысленный характер. Что его можно понять как намек на постельные дела. Стоит ли ему из-за этого краснеть? Нет, Рёдер, держись как ни в чем не бывало. Она ответила между прочим, не ломаясь. Она и вообще не ломака. Просто она хотела его смутить. А куда она сунула свое одеяло? Наше ложе! Наша постель. Как ты там все красиво устроил! Ведь не расстелила же она поверх свое одеяло. Впрочем, сейчас посмотрим. Мужчина встал и подошел к двери. Так небрежно, между прочим, что она невольно умолкла.
— Совы, — объяснил он, словно ему надо было их накормить. — Под этой крышей проживает парочка сов.
— Да ну? Совы — мудрые птицы. Дай им тоже что-нибудь. Моя бабушка по матери…
Он наклонился перед входом. Отломил несколько крох от своего ломтя. Немного — и небольших. Для жертвоприношения — маловато, для собственного употребления — в самый раз. Итак, он святотатствовал во мраке совиного и мышиного храма. Ибо явился не затем, чтобы принести хлебную жертву. А затем, чтобы увидеть. И он увидел. Одеяло Тамары лежало на куче торфяной трухи — на его матраце. Не расстелено, покамест сложено. Но тем не менее. Оно лежало. «В» или «на» постели, вот в чем дело.
Ох, барышня, барышня, нет ничего тайного… Деревенские бабы приносят в жертву девушку, чтобы потом с полным основанием спровадить меня подальше. Надо открыть ей глаза. Ей кажется, будто она командует, а на самом деле командуют ею. Все равно никто ей не поверит, когда она скажет: дорогие сестры, фашист меня даже и пальцем не тронул. Она малость дерзкая, эта Тамара. Я знаю, девушка, в войну дерзость чаще всего сама себя карает. Я должен ей это сказать. Я просто обязан. Перед самим собой. И перед той женщиной, перед Ольгой. И перед лошадиным богом. И перед старшиной. Рёдер снова вышел под открытое небо. Он не знал, с чего начать, как сказать то, что он просто обязан сказать девушке, себе самому и другим людям. Это было совсем не легко. Потому что у Тамары замерзли ноги и она прыгала перед овином в своих валенках, как прыгают при беге в мешках.
Читать дальше
![Макс Шульц Солдат и женщина [Повесть] обложка книги](/books/409337/maks-shulc-soldat-i-zhenchina-povest-cover.webp)




![Макс Шульц - Летчица, или конец тайной легенды [Повесть]](/books/409424/maks-shulc-letchica-ili-konec-tajnoj-legendy-pove-thumb.webp)