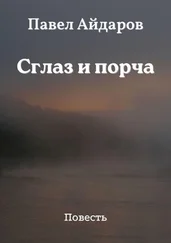А Данько на своем стоит.
«Ни, — говорит, не отрекусь от моего народа. Краше смерть за народ приму, а воли он сам теперь добьется, раз познал свою правду и силу».
И с лютою злобою заревели паны:
«Больней бейте его! Огнем палите!»
Тут не стерпела, заплакала Данькова мать:
«Паны-катюги убьют тебя, сыночек».
А Данько и говорит ей:
«Не плачьте, мамо. Вы ж сами учили меня любить народ и жить по правде. А правда сильней смерти».
И от слов таких зашаталась мать, як та калина от бури. И когда стала падать, люди подхватили ее под руки, сказали ей:
«Спасибо тебе, добрая маты, що такого сына вскормила и взрастила на людское счастье».
И поняла мать: не плакать, а гордиться ей надо таким сыном. И благословила его: «Иди, сынку, прими муки лютые за счастье людское»…
И ведут паны Данька по степи на казнь за народ и плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое.
А Данько все идет и голову поднял высоко, будто глядит за горы, за тучи. Кровь его на землю часто-часто капает — кап-кап… И где упадет капля его крови, там и мак расцветает, такой же красный, як та кровь. Вот с тех пор и зачал цвести на полях мак, щоб люди не забували Данька. Так-то, хлопче…
Сашка, сдвинув тонкие изогнутые брови, зачарованно молчит.
Вспомнил и он свою мать. Вот, будто как во сне: тихо положила свою руку на его голову, нежно погладила: «Баю-бай, баю-бай. Тише, ветры, не шумите и Сашеньку не будите»… Может, и она так же сказала бы ему: «Иди, Сашенька, прими муки лютые»…
Он устремил ясные, внимательные глаза на деда:
— Дидуся, дидуся, а дальше что?
Дед Макар шевельнул белыми усами, приподнял нависшие седые брови. Глаза его по-детски блеснули:
— Вся, сынку, сказка.
— Ой, до чего ж хорошая сказка, дидуся! Верьте совести, хорошая! На всю жизнь ее запомню. Верьте совести, запомню, — и Сашка быстро вытер глаза.
Дед ласково взглянул в эти пытливые голубые глаза.
— Эге, хлопче, а казав, — плакать не умеешь.
— Я не плачу, дидуся… Как про него сказано! «И плетюгами стальными стегают, рвут его тело белое, а он все идет и голову поднял высоко… Кровь его на землю часто-часто капает… И где упадет капля его крови, там и мак расцветает, такой же красный, как та кровь»… И я бы вот так же, как Данько, все шел бы и шел… А как дальше, дидуся?
И Сашка все допытывался, повторяя слово за словом всю сказку.
Потом дед поднялся.
— Ну, добре. А теперь, хлопче, иди до Днипра, вымойся там, одежу свою постирай. И где ж ты тильки так замурзился? Иди скорей и вертайся, чуешь?
Сашка, точно проснувшись, удивленно спросил:
— Отпускаете? А как утеку?
— Ежели ты человек, а не хорь, то вернешься… Чи як?
Сашка подумал, потом твердо сказал:
— Вернусь, дидуся. Верьте совести, вернусь!
— Верю совести, — ответил дед. — Бери ось тутечки мыло. Иди. — И сам, не оглядываясь, пошел на пасеку.
Сашка растерянно постоял с минутку, глядя деду вслед, вздохнул:
— Ну и чудной же этот дед Макар! К Днепру отпустил. Да я ж могу сразу убежать!
Отяжелевший от сытного угощения, он медленно побрел к Днепру.
Но тут же он увидел близ куреня маленький круглый столик, на котором что-то блестело.
— Часы! — прошептал он, еле переводя дыхание и глядя на большие старинные серебряные часы. На столбике торчала стрелка, и вокруг нее — цифры. Он догадался: солнечные часы. Дед, видно, сверял с ними свои карманные и позабыл. Мальчик вздрогнул от заманчивой мысли, быстро оглянулся, и у него даже в глазах помутилось: у куреня стояло ружье, прислоненное дулом к стволу груши.
Смятение охватило Сашку. Часы и ружье! Только представить себе, что он, Сашка, может сделать, обладая этим богатством! С ружьем можно одному жить в лесу и охотиться на дичь. Это уже не рогатка разнесчастная. С ружьем можно никого не бояться. Часы продать — вот и деньги на хлеб, на билет. Можно смело ехать в Крым и на Памир. Можно…
Он схватил часы. Они будто ожгли руку.
«Верю совести», — вспомнил он последние слова деда, того деда Макара, кто так щедро накормил его, лаской согрел его сердце.
С минуту Сашка стоял, будто прирос к земле. Две силы боролись в нем, но все громче звучали в ушах дедовы слова: «верю совести», «верю совести». И мальчик, быстро положив часы на стол, побежал, сгорая от стыда и будто убегая от самого себя.
Он торопливо купался и стирал одежду в Днепре, боясь, чтобы дед не подумал, что он сбежал. Потом, в сырой еще тельняшке и веревочкой подвязанных штанишках, он подошел к деду — чистый, веселый.
Читать дальше
![Павел Журба Александр Матросов [Повесть] обложка книги](/books/399284/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest-cover.webp)
![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)