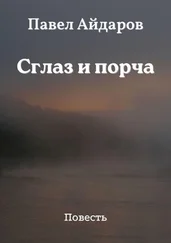— «Червоный партизан»? — вскрикнул Матросов. — Петро, да я же там был!.. А ты про Данько слышал?
— Про кого?
— Сказка такая… Отчего полевой мак цветет…
— Смотри ж ты! — удивился Петр. — Та дидуся наш мне рассказывал…
— А как деда звать?
— Та Макар же.
— И это мы с тобой в саду дрались?
— Та вже ж, — засмеялся Антощенко.
Матросов порывисто схватил руку Антощенко и сжал ее до хруста, потом крепко обнял его:
— Петро, запомни, друг ты мне по гроб! Родней брата! Ну как же это мы не узнали друг друга? Смотри, и усики чернеют уже. — Помню, дед гордился тобой: ты пионером больше всех колосков насбирал и ховрашков поймал. А как дед? Я, Петрусь, деда твоего в сердце ношу… Жив он?
— Та живой… был живой… а теперь, може, и нет, — ответил Антощенко, до глубины души растроганный нежданной встречей. Потом рассказал: он с отцом бежал от фашистов с Украины, а мать, братишки Василько и Олесь, жена Леся и дед остались. Теперь там враги хозяйничают, и от родных нет вестей.
И Матросов, волнуясь, рассказал Петру о памятной встрече с дедом Макаром у Днепра, в колхозном саду.
— Век буду помнить его. Это замечательный дед, верь совести! Людей понимать и любить он меня научил, Петро!..
— Смотри ж ты, где встретились! — изумился Антощенко. — Ну, как же я тебя раньше не признал? Через дидусю мы с тобой прямо-таки родня. А с родней же всегда легче. Отвоюемся, поедем к нам, Сашко. Я тебя закормлю кавунами та виноградом и песен наспиваемся вволюшку.
— Обязательно поедем, Петрусь.
Петро Антощенко вдруг нахмурился, пристально посмотрел Матросову в глаза, вздохнул и тихо, доверительно сказал:
— Эге, Сашко, про Лесю вот и спиваю… Ох, Сашко, коли б ты знал, какая у меня жинка Леся! Краше ее по всему Поднепровью не было. Первая песенница! Заспивает она — и замрет сердце твое… Неначе и звезды слушают ее, и степь, и Днепро… Эх, Леся, Леся!.. А теперь, може, палачи-катюги рвут ее тело белое або в неметчину в рабство погнали ее. Сам знаешь, как враг лютует. По всей Украине руины и виселицы. — Он мучительно скривился. — А я тут с тобою песни спиваю… Спиваю, Сашко, песни, а сердце мое горит — стерпу нема. Спиваю и плачу кровавыми слезами…
Матросов порывисто обнял его, как брата:
— Не надо, Петро, терзать себя. Не надо. У меня, друг, тоже… Лина есть, и высказать не могу, как тоскую по ней…
Антощенко гордо вскинул головой:
— Та чего я тут развел тоску-кручину! Только зря тебя расстраиваю.
— Нет, Петрусь, ты мне все-все говори. А я — тебе. Хорошо?
Так началась эта дружба.
Вскоре Антощенко писал домой письмо. Он мало верил, что оно дойдет до родных, но не писать не мог. Впрочем, был слух, что наши летчики отправляли солдатские письма партизанам, воюющим в тылу врага, а партизаны как-то доставляли эти письма адресатам.
«Дорогие дидусю, — писал он, — у меня здесь есть друг, такой же боевой, верный и кровный, каким всегда был и есть для вас дид Панас. Правда, вы прошли со своим боевым другом всю гражданскую войну и били немцев, петлюровцев, белогвардейцев, а мы дружить только начинаем, но я верю: и наша боевая дружба будет такая, что в огонь и воду пойдем один за другого. А главное — друг мой есть тот самый Сашко Матросов, который бродячим хлопчиком забрался до вас в сад, а вы, дидусю, рассказали ему сказку „Від чого мак цвіте“… Так тот мой друг Сашко добрую память о вас, дидусю, носит в своем сердце»…
 о вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление Матросова о принятии в комсомол. Александр волновался: впервые он должен говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием.
о вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление Матросова о принятии в комсомол. Александр волновался: впервые он должен говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием.
Волнения и тревоги Александра возросли, когда уже был назначен день и час собрания, на котором его будут принимать. Сколько он мечтал об этом часе! А вдруг его не примут? Последнюю ночь он почти не спал, думал:
«Ленинский коммунистический союз молодежи… Ленинский!.. Это значит — быть в первых рядах борцов за счастье людей на земле… И вот вступаю… Но что я скажу им? Как я скажу этим хорошим людям, что я до колонии, вместо того чтобы учиться, бродяжничал и пропадал? Я скажу им всю правду…»
Александр хотел произнести на собрании такую горячую, проникновенную речь, которая открыла бы всю глубину его сердца. Но говорить на собрании оказалось труднее, чем он предполагал.
Он прошел раньше всех, сел в задних рядах и вдруг почувствовал себя тут совсем затерявшимся, незаметным и был удивлен, когда на весь притихший зал прозвучала его фамилия.
Читать дальше
![Павел Журба Александр Матросов [Повесть] обложка книги](/books/399284/pavel-zhurba-aleksandr-matrosov-povest-cover.webp)
 о вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление Матросова о принятии в комсомол. Александр волновался: впервые он должен говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием.
о вот пришла долгожданная пора. Комсомольское собрание обсуждало заявление Матросова о принятии в комсомол. Александр волновался: впервые он должен говорить о себе, о жизни своей перед таким большим, многолюдным собранием.![Павел Ковалев - Красный ледок [Повесть]](/books/29080/pavel-kovalev-krasnyj-ledok-povest-thumb.webp)