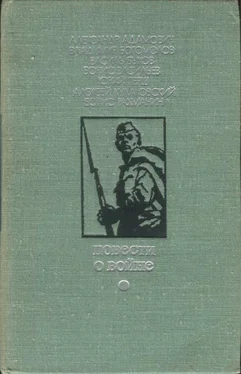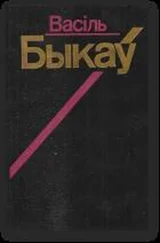— Первая пойдет, первая навстречу немцам, — напряженно вслушиваясь, привычно повторяет команду раненый, строго глядя на нас с земли, точно мы, и правда, спим или сами неспособны расслышать. Нет, я пойду с первой, мы пойдем навстречу немцам, а тем временем наши унесут раненых как можно дальше. Наконец — и вот так это кончится — мы повернем, мы двинемся назад, навстречу врагам, и все, что было в эти дни, что копилось на бесконечных кругах, разрядится. Может быть, смертью, но разрядится. Глаза мои все залиты слезой, но я словно привык уже к этому состоянию — к тому, что все, мною видимое, расплывается, тает, окрашено болью и радугой…
Тем, кто пойдет на немцев, собирают и передают патроны. У меня немецкая винтовка, мне нужны немецкие… Ага, уже идем, уходим, ну вот и хорошо! Мы оглядываемся на своих, пока еще можно видеть. Неловко, устало, яростно вцепившись в одеяла, в брезент или просто так, за руки, за ноги уносят раненых, убитых, вытягиваются в тревожную и торопливую процессию, уходят навстречу дымному зареву. Нет, нам уже не вернуться к этой дороге, мы это знаем, нас мучит тоска этого знания, и чтобы заглушить, задавить ее в себе, мы все ускоряем шаг. Пятнисто блестит листва лозняка, лица у людей окрашены зловещим земляным огнем, тени от кочек и рытвин, от кустов кажутся черными ямами… Мы уже бежим, откуда-то сила взялась бежать, мы расходуем какой-то НЗ, последний запас, который раньше бессознательно приберегали. Теперь уже незачем приберегать. Меньше чем полкруга сделаем и тогда найдем, встретим тех, от кого уходили, кого преследовали. Костя-начштаба с нами, когда он оглядывается на бегу, мне кажется, что лицо его, глаза его неестественно веселые.
Впрочем, я плохо вижу, мне многое только кажется.
Мы уже устали бежать, дышать нечем, перешли на торопливый шаг. Цепь наша сильно перекосилась, крыло, которое дальше от леса, отстает. Как воду в низинку, всех сносит к лесу, где и рытвин не столько, и круг поменьше.
Справа у нас неровно подсвеченная стена лозняка, слева изломанный торфяными холмами горизонт, съедаемый огнем — красным, желтым, синим, даже черным. Даже чернота какая-то пылающая, плавящаяся.
Прошли канаву, еще прошли и увидели лежащих людей. Это мертвая засада — власовцы. Знакомыми пятнами белеют на земле трупы. Что-то мстительное, злорадное в их неподвижности, успокоенности…
Костя-начштаба все оглядывается на нас, как бы прикидывая, сколько времени эти тридцать или сорок человек смогут продержаться. Мы отбежали, отошли достаточно далеко от своих, давно уже не видим их, а немцев нет. И не слышно больше, чтобы они стреляли.
А что если и они одновременно с нами решили повернуться и идти нам навстречу? И потому снова уходят от нас и сейчас натолкнутся на наших раненых. Костю-начштаба явно беспокоит это. Немцы будто сквозь землю провалились. И не стреляют больше, а до этого все время мы их слышали.
— Вон они, смотри! — крикнул кто-то обрадованно, облегченно. В километре, если не больше, от лозняка какое-то живое движение, подсвеченное дымными заревами. Да, они уходят по дороге, которая нас сюда привела.
Там их встретят усатый командир, его отряд.
А в противоположной стороне нас поджидают другие немцы — внешнее кольцо блокады.
Мы завершаем свой последний круг, чтобы все-таки убедиться, что немцы действительно ушли, что ушли все.
Нам надо догонять своих.
…И все-таки, почему за Косачем мне видится Борис Бокий и, наоборот — Косач за Бокием? Я ведь не очень понимаю, что такое Косач, чтобы их сравнивать, А Бокия я и не видел никогда, только слышу его спорящий голос. Бокий — весь из книг, из библиотеки, из радио и газет, а у Косача все это от войны. Что это, я, пожалуй, и не сформулировал бы точно. Горькая, безрадостная, порой ожесточенная мысль о людях, о человеке? У одного густо настоянная на собственной жизни, у второго выросшая из опыта других, но принимаемого очень лично. Порой (у Косача) этооборачивается какой-то остановившейся (как его улыбка) мыслью, утомленной в действии, поглощенной действием; у других же, как у Бокия, размышление, мучительное, постоянное и есть действие. Бокий напоминает человека, не верящего в добрый исход болезни именно из-за слишком мучительного, страстного желания такого благополучного исхода. Мысль его на лету, как спазмой, перехватывает нетерпением, горечью, болью. (Такая же спазма, но уже переходящая или перешедшая в ожесточение, чувствовалась и в Косаче. Особенно это прорвалось в нем после Переходов, на том болоте.) Бокий порой мне представляется Косачем, но который вдруг разговорился…
Читать дальше