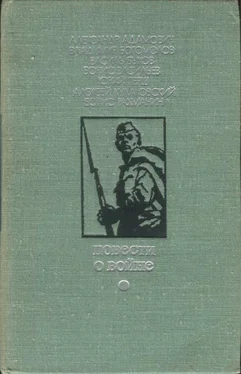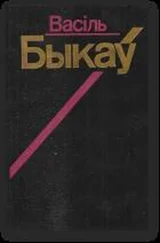— Вот так, Костя, следу человеческому будешь радоваться!
И приказал:
— Постреляй, начштаба, отзовись. Чуешь, спрашивают? (Немцы по другую сторону леса время от времени стреляют.) Мы-то свои диски разбазарили. И скажи, чтобы поделились патронами.
— Патронами? — Костя недоверчиво усмехнулся.
— Ничего, прикажи.
Костя направил в сторону кустов автомат, дал очередь, вторую. Немцы отозвались тут же. Целым залпом очередей. Рады, что мы есть? Или что мы не близко, далеко?
И снова — как отметка на круге — трупы лошадей. А две лошади мирно бродят возле самых торфяных гор. Взмахивают головами, переходят с места на место — дым, гарь их мучит.
— Провалятся в огонь, — говорит бородатый пожилой партизан с перебитой ногой, которого мы несем на одеяле Он натужно вытягивает голову, выглядывает из своего неудобного гамака.
— Сейчас сбегаю, заверну, — сердито отзывается Ведмедь, вцепившийся в одеяло, в тяжелую ношу побелевшими пальцами. Пот ест ему глаза, заливает стекла очков. Низкорослому Ведмедю особенно худо: ему приходится не держать свой угол одеяла, а все время поднимать, тянуть его кверху.
— Рванул бы я по этой дороге, откуда немцы пришли. Сколько можно так ходить? — жалуется Ведмедь.
Мы вчетвером несем своего раненого. Держаться за концы одеяла приходится двумя руками, а винтовку тоже за спину не закинешь, нужна под рукой. Винтовка мешает, бьет по коленям.
И каждому кажется, что сосед не так держит, не так идет. И не то, не так говорит.
— А ты узнал, кто тебя поджидает на этой дороге?
— Вот и узнаем.
— Лучше вот держи как надо! Уходить, так назад, к болоту. По которой мы пришли. Усатый хитер, сидит теперь и бульбочку печет. А мы кружись, как слепая лошадь.
— Сидит и в ус не дует, — флегматично позавидовал белобрысый парень.
— Иди-ка в ногу, — распоряжается сердитый от усталости толстяк Пухов, который всех нас все поправляет. — Что ты на куст прешься? Он хочет (это снова Ведмедю) на дорогу выбежать. А я тебя из пулеметов и накрою. Немцы только и ждут, чтобы мы оторвались от этого проклятого леса. Да не тащи ты, подними выше!.. Припрут на открытом, куда побежишь? В горячие ямы?
— Коней жалко, провалятся, — снова говорит раненый. Он нас не слышит — оглушило миной. Голова, худая шея бородатого дядьки по-птичьи тянутся кверху из глубокого гамака.
— Извините, хлопцы, тяжелый я, — просит раненый.
— Ничего, батя, — говорит белобрысый флегматик. — Перехода вшестером еле-еле! Только зачем — мертвого?
Ведмедь вдруг удивился:
— А правда! Такая война, что и за мертвого боишься. Где уж там раненого оставить противнику.
Мы все уходим от немцев, унося своих раненых, убитых, и как бы даже понимаем, почему мы ходим и они ходят, почему они не остановятся, не залягут и не навяжут нам бой (у них для этого патроны есть, у них всегда почему-то есть патроны). Ждем, что вот сейчас напоремся на засаду. Уходим от них, идем следом за ними, прислушиваясь к угрожающей (а может, предупреждающей?) пальбе.
Все-таки первое то ощущение, когда мы налетели на них, когда гнали, опрокидывая, а они убегали, наверное, продолжает действовать. Немцы и сами, пожалуй, не знают определенно, преследуют они нас или уходят от нас. Возможно, тоже ждут и боятся нашей засады. И, может быть, думают про то, как бы от нас оторваться, уйти; про то, как им сорваться с этого заклятого круга, с этой бесконечной орбиты, не подставив себя под огонь и не провалившись в ямы.
Переход, оба Перехода — и раненый младший и убитый старший — у нас за спиной. Впереди несут комиссара Шардыку, говорят, уже умершего. Время от времени мы меняемся местами с теми, кто идет впереди отряда, и с теми, кто прикрывает отряд сзади. Или неси убитых или жди, когда из засады ударят в тебя переднего. Но устали так, что любой охотнее пойдет впереди колонны. Пот, едкий, горький от дыма, обливает все тело, его просто спиваешь с лица, так он струится, так заливает губы. Теперь я несу Перехода-старшего, мы вчетвером несем, и вместо носилок — его брезентовый плащ. Ногтям больно, такой он тяжелый, так тянет мертвое тело к земле. И самому хочется упасть и не двигаться, погрузиться в усталось без остатка, сладко замереть. Глаза мои плавают в радуге, все окрашено многоцветно, но все чаще, как тень, наплывает черная полоса. Вдруг вышло наверх все, что копилось эти дни, слилось в одно тупое чувство самой последней усталости, за которой уже полное безразличие — даже к самой смерти.
Немцы все стреляют за лесом, а мы уже молчим. Наше молчание их беспокоит, пугает, и стрельба все усиливается. Сколько минуло с того мгновения, как разорвалась первая мина и мы бросились на власовцев? Вот они, лежат перевернутые, глазами к небу, для них прошла целая вечность. Даже секунда смерти — такая же вечность, как и миллион лет. А над нами еще ходит живое солнце, оно сделало большую часть своего полукруга, пока мы вертим свои жернова. Сколько раз их вертели и до нас… Еще много раз обойдем вокруг леса, прежде чем солнце скатится за те дымные холмы. А потом что? Что потом произойдет, неизвестно, но только об этом и мечтаешь: скорее бы оно свалилось с дымящегося жаркого неба и перестало плавить, сжигать нас. Я наклоняюсь к своему локтю, чтобы протереть глаза, и вижу близкое лицо Перехода. И как-то нехотя удивляюсь тому, что оно совсем не потное. О чем я, куда это соскальзывает мое внимание?.. Кажется, ни до чего уже нет дела, и вместе с тем замечаешь самые подробности.
Читать дальше