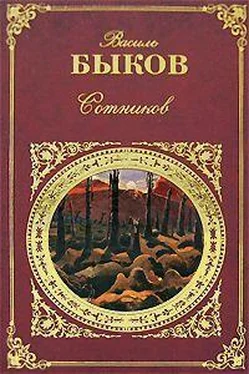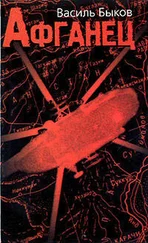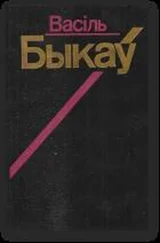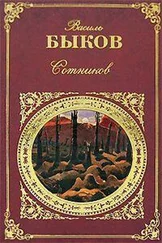Немного погодя пришел с работы и хозяин, полный, трудно дышавший человек в очках. Жена и дочь, целуя его, поздравляли с юбилеем, потом Анеля познакомила его с Егором. Отец тепло пожал его руку: «Бухгалтер Свидерский». Он переоделся за шкафом — скинул поношенную толстовку и надел белую сорочку в полоску, галстук, жилет и черный, потертый, но еще весьма приличный пиджак. На столе с огромным букетом пионов посередине уже белели четыре тарелки, возле них ножи-вилки — каждому по паре. Егор присмотрелся: уж не серебро ли? Может, и не серебро, но красивые, ничего не скажешь. Хозяйка поставила перед каждым по небольшой рюмке, наверняка для выпивки, и Егор почувствовал неловкость от этой изысканности, которая была для него непривычна. Сев за стол, он какое-то время не решался дотронуться до этих изящных вещей, не знал, что взять в какую руку, и смешался от собственной неловкости. В голову откуда-то явилось и зазвучало нелепое слово «обывательство, обывательство...». Тем не менее все-таки приятным было это «обывательство»...
Угощение, однако, оказалось довольно скромным: тушеная капуста и драники в сметане. Они с хозяином выпили по рюмке какой-то сладкой наливки, жена и дочь лишь пригубили, пожелав Свидерскому здоровья и успехов в работе. Тот только вздохнул: «Думал ли когда, что таким будет мое пятидесятилетие...» Егор после выпивки не закусывал, все-таки он чувствовал себя очень скованно в этой небольшой, судя по всему, дружной семье. Но скованность медленно проходила, таяла в праздничной атмосфере взаимного уважения и доброты, немалая часть которых перепадала и гостю. В конце обеда Свидерский действительно рассказал о встрече с режиссером фильма «Катька-Бумажный Ранет», с которым он когда-то сыграл в карты и даже обыграл его на небольшую сумму, и режиссер обещал вернуть проигрыш, чего, однако, не успел сделать по причине вынужденного и поспешного отъезда Свидерских из Ленинграда.
Остаток того дня Егор с Анелей гуляли над речкой, и Анеля тихонько рассказывала ему об их жизни в Питере, где отец когда-то преподавал в гимназии. До революции, конечно. Отец происходил из простой семьи, его брат даже был видным революционером, социал-демократом, сидел в тюрьмах, а потом эмигрировал в Германию. А вот с матерью было сложнее — мама была из дворянского рода. Все эти офицеры и дамы в альбоме — родственники по матери, из-за них семью гимназического учителя Свидерского и выслали из Ленинграда. Три года они прожили в Полоцке, но вынуждены были уехать и оттуда. Так вот и очутились в местечке, и дальше ехать было некуда. Наверно, тут уж отцу с матерью и суждено доживать. А с ними и ей, Анеле, которая их очень любит и никогда не оставит.
Они медленно шли узенькой, хорошо протоптанной стежкой. У речки в вечерних сумерках высились темные ольхи, оттуда тянуло сыростью, рядом светлело пестренькое платье Анели. «Ты комсомолка?» — спросил Егор. «Нет, — вздохнув, сказала она. — Кто же меня в комсомол примет?» Он не возразил. Действительно, такое, далеко не пролетарское происхождение будет во многом ограничивать ее в жизни. Это похуже, чем происходить из крестьян-середняков. Это, пожалуй, как кулацкое происхождение. Если не хуже.
Для Азевича настало время новых забот и волнений. Где бы он ни был днем, как только наступал вечер, бежал к соседям, и они с Анелей шли или к речке, или в нардом, если там было что-либо интересное, или просто сидели на скамейке за кустами пионов. Анеля оказалась умненькой, говорливой девушкой, прочитавшей немало книг, и теперь она рассказывала содержание некоторых из них Егору, который, конечно же, не прочитал и десятой доли того. Она пересказала ему два романа Александра Дюма, «Айвенго» Вальтера Скотта, «Крестоносцев» Сенкевича, «Дон Кихота» он взял домой, чтобы прочесть самому, но не было времени, и он одолел лишь сотню страниц этой толстой книги. В дождливые вечера обычно сидели в Анелиной боковушке и тихо беседовали о разных разностях. Именно там, в боковушке, он впервые поцеловал ее, девушка очень испугалась его поцелуя и замолчала в волнении. Он обнял ее и в порыве неизведанной нежности мысленно решил: женюсь. Хотел тут же сказать об этом Анеле, или, как писали в старых книгах, «попросить руки», но что-то помешало этому, может, его застенчивость. Наверно, надо было подождать, выбрать другой, более подходящий момент. Или набраться недостающей решимости. Так или иначе, он не сказал того единственного слова, и кто знает, может, и к лучшему. А может, и нет. Вполне возможно, что он совершил самую свою большую ошибку в жизни.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу