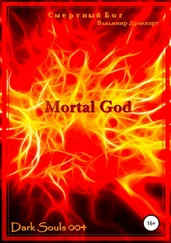Ларкин спрыгнул с танка, пошел к своей машине, но вдруг вернулся назад и спросил Андриевского:
— Что-то я не пойму, зачем ты про необитаемый остров говорил…
Борис, засмеялся.
— Потом поговорим, — сказал он. — Я тебе одну историю расскажу. История на великий палец…
— Собери по-быстрому своих офицеров: я поставлю задачу и сообщу о порядке движения.
— Кто пойдет впереди? — спросил Борис.
— Я возглавляю движение и поддерживаю связь с бригадой. Ты замыкаешь колонну…
— Правильно: ты поддерживаешь связь с начальством, — одобрительно поддакнул Андриевский и тут же решительно выдвинул свое предложение: — Давай сначала я пойду впереди. Потом поменяемся. Сторговались?
— Только бы на засаду не наскочить, — сказал Ларкин и пошел к своей «тридцатьчетверке».
Андриевский надел шлемофон и шагнул к башне.
ЧЕРЕЗ МНОГО ЛЕТ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
Мать
Теперь эти места считаются Москвой.
Автобус идет не то по улице, не то по загородному шоссе. Обочины с кюветами, в глубине стоят стандартные пятиэтажные дома, новенькие, но уже скучные, и стоят они не рядами, как издавна ставят их в городах, а кучками, вразброс. Между группами домов — пустыри, овраги. Вдалеке виден сосняк. Потом автобус выскакивает на дачную улочку с палисадниками, скрывающими за густой запутанной штриховкой сухих яблоневых веток бревенчатые дома и застекленные веранды. Появляются голубые дощатые павильоны, которые украшают собой все подмосковные станции. За ними и в самом деле возникает железнодорожное полотно, по которому с протяжным, нарастающим гулом несется электричка. И снова пустыри, овраги, снова стоящие вкривь и вкось скучные дома с веселыми балкончиками.
А время — март.
День ослепителен.
Издали снег, покрытый стеклянной корочкой, сияет. Приближаясь к дороге, он темнеет и темнеет, теряет твердость и блеск. Сугробы у домов серы, а на сугробьих боках висят густые и рваные черные кружева. Вдоль тротуаров лежит на асфальте длинный, узкий, плоский язык маслянистого льда. Снизу его подтачивает быстрый, узорчатый ручей, сверху — белое неподвижное солнце.
Бывают ли такими ослепительными мартовские дни вблизи Балтийского моря?
Этого Мария Васильевна не знает.
Она сидит в автобусе рядом со мной и смотрит в окно.
Я впервые вижу ее вне дома и почти не узнаю. На ней длинное котиковое манто, шляпка, нарядные позолоченные очки. У тех очков, домашних, вместо дужек прикреплена длинная замкнутая проволока, которая окружает всю голову и мягко лежит в волосах, как бы специально для нее образующих круговую волну.
Автобус выскакивает к широкому высохшему руслу реки Фильки. По дну русла строители ведут открытую линию метро. Рельсы прокладываются между невысокими бетонными бортами.
— Скоро, пожалуй, построят, — говорит Мария Васильевна. — Тогда метро почти у самого нашего дома будет.
— Замечательно, — говорю я.
— Мне-то что, — говорит она. — Я на работу не езжу. И Иван Борисович не ездит. Мы старики. А каково работающим? Каждый день туда-назад?
— Да, — говорю я. — Разрослась Москва.
— Они не хотели сначала возле нас станцию делать. Мы в Моссовет писали. Собрали семь тысяч подписей…
Она отворачивается к окну, но я успеваю заметить слезы.
— Замечательно, — говорю я. — Замечательно, когда метро рядом…
Сегодня для Марии Васильевны очень трудный день — 14 марта.
Автобус въезжает на дамбу, перекрывающую старое речное русло. Посредине дамбы — стеклянная станция метро.
— Вы, пожалуйста, сами скажите соседям, кто вы такой, — говорит Мария Васильевна, когда мы садимся в вагон.
— Конечно, — говорю я. — С удовольствием.
— Вы не подумайте чего-нибудь, — поспешно просит она. — Только я в той квартире сколько уж лет не была! Как теперь эта Клавдия Ильинична… Я вам, кажется, про нее рассказывала? Нет, нет. Вы не подумайте. Мы никогда не ссорились. Я ни с кем не ссорилась. Но ведь она даже детей выгоняла. Придут к Борису товарищи, а она их не впустит в квартиру. А своей дочке совсем житья не давала…
Вагон бежит между светлыми бетонными бортами. Они невысоки и не загораживают солнца. В его беспощадном свете котиковое манто кажется пыльным, на сгибах сквозь черноту начинает пробиваться что-то розовое или фиолетовое. Зато какие чистые цвета имеют дешевенькие девичьи пальтишки, расположенные напротив нас: синее, красное и такое, какими у многих из нас к концу войны были шинели, не наши, советские — плотные, серые, а английские — зеленые, тонкие.
Читать дальше
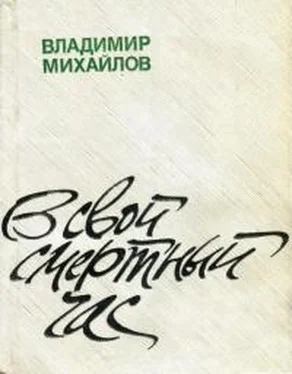







![Владимир Упоров - Смертный Бог [СИ]](/books/411019/vladimir-uporov-smertnyj-bog-si-thumb.webp)