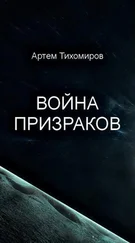— Влада, ты почему не стреляешь? Да стреляй же, стреляй! — зачастил Милович, увидев немцев. — Эх, браток, дай-ка я!
Штефек молча оттолкнул руку помощника. Ему было не до шуток. Не будь он пролетер [1] Пролете́р — боец партизанской бригады, носившей название пролетерской.
, он, наверное, заплакал бы. Правда, слезы и сейчас набегали на глаза, но это было от горького дыма.
— Ты что, оглох? Стреляй! — И когда пулеметчик опять ничего не ответил, помощник спросил испуганным шепотом: «Что, может, патронов нет?.. Тогда нам, наверное, пора давать ходу. Все же лучше, чем погибнуть, а?»
Пулеметчик нахохлился, как старый индюк, которого дразнят ребятишки. Лицо покраснело, а брови сурово сошлись у переносицы. На некоторое время воцарилось молчание, словно в могиле. Было слышно, как шелестят листья на ветках.
— Бежать, говоришь, надо, а? — глухо прошептал Влада, сдерживая ярость. — Ты с ума сошел или, может быть, забыл, как на днях расстреляли Се́кулича за то, что он раньше времени оставил позицию… Я думаю, лучше здесь погибнуть, чем опозорить роту.
— Ну ладно, раз ты так говоришь, хорошо, можно и погибнуть.
Штефек и Милович были старые товарищи, лучшие бойцы в роте, всегда друг возле друга. Боривое, бывало, и куска хлеба без Влады не съест, а Влада без него глотка воды не выпьет. Все делили пополам: и горе и радость. Если надо было идти на пост одному, шел другой, ведь легче отстоять смену за друга, чем за себя. В бою их всегда видели вместе. Когда рота получала важное задание, именно их посылал командир: знал, что друзья не подведут, даже если придется рисковать жизнью.
— Стыдно, я и сам знаю, что стыдно, да… — выдавил из себя Милович и добавил хриплым голосом: — Если фашист не прикончит, свои расстреляют. Черт побери эту смерть, всюду караулит.
— Успокойся ты, приди в себя, меня и самого трясет… Лучше смотри, чтобы эти волки нас не окружили.
Милович молча отполз немного в сторону, прислонился к нагретой каменной плите. Тревожные мысли не оставляли его. Вот разорвется снаряд, убьет или искалечит, и тогда всему конец — жизни, борьбе, любви. И больше не нужна будет ни свобода, ни встреча с русскими. По лицу поползли первые капли дождя, они словно успокоили его. Дождь стал моросить сильнее, будто небо вместо матерей и сестер оплакивало тех, кто лежал, распростершись, на скалах в горах.
И, глядя на затянутую облаками вершину Романи́и, Милович вспомнил любимую партизанскую песню:
Над горою Романи́я
Флаг червонный плещет, вьется,
В нем привет нам от России,
Пусть сильнее сердце бьется.
От этого стало немного легче на душе. А потом пришла надежда, что немцы ослабят натиск. «Не такие уж они дураки, чтобы бродить ночью по лесу, да еще в дождь. Хорошо, что дождь начинается…» Боривое осторожно подполз к пулеметчику, который что-то шептал. «…Вместе воевали, вместе и умрем. Мы неплохо отомстили немцам, — Штефек обнял пулемет с обгорелым прикладом и опустил на него голову. — Мы хорошо воевали, честно, а теперь должны с честью умереть… Правда ведь?.. Осталось сорок патронов, хватит на четыре десятка немцев… Ну, что молчишь, дурак железный, думаешь, мне охота умирать?»
Вдруг в двадцати — тридцати шагах от них разорвался снаряд. Милович припал к земле. Воздух наполнился дымом. Печально пропела шрапнель. Где-то у села залаял тяжелый пулемет, и над головами партизан засвистали пули. Одновременно заговорили несколько винтовок.
— Влада, ты жив? — окликнул его помощник.
— Теперь давай, пора. — Штефек приподнялся, взял пулемет за ремень и повернулся спиной к немцам.
Милович не узнавал своего пулеметчика, так он изменился за сегодняшний день. Глаза ввалились, лицо потемнело от пыли и пороха, осунулось, словно после тяжелой болезни, скулы обтянулись. Пробитая пулями, прогоревшая у костра куртка висела на плечах, как на вешалке.
Согнувшись под тяжестью пулемета, Влада большими прыжками перескакивал через самые крупные камни на тропинке, раздвигал руками ветки, грозившие выколоть глаза, ругался, когда колючие кусты цеплялись за одежду или за пулемет. Он спешил уйти подальше от этого места, скорей догнать свою роту, а там будь что будет. — куда все, туда и он. Но, увидев заросли ежевики, он задрожал от нетерпения: не хватило воли пройти мимо ягод, хотя бы за это и пришлось заплатить головой.
— Скорей, Бора, скорей, — поторапливал Штефек товарища, а сам совал в рот ягоды вместе с листьями, а то и с колючками. — Не можем мы тут долго копаться. Скоро стемнеет, здесь и заплутаться недолго.
Читать дальше