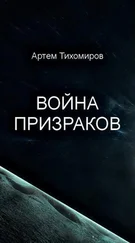На кладбище хоронили покойников, а по дворам в укромных уголках сидели бойцы и пели любимые песни, пронесенные сквозь страшные бои, песни, рожденные на марше, на привале у костра, песни, крещенные пулей и гранатой.
Рядом с юношами плясали девушки одна другой краше, одна другой моложе. Во второй роте их было четыре, самая младшая — босни́йка Здра́вкица. Сейчас она сидела в сторонке, крутила на пальцах длинные черные локоны и не сводила глаз с политрука Стевы, ожидая, когда он затянет: «Потому что жалко этих дней прекрасных, этих дней прекрасных, сладких поцелуев». Здравка первая принесла в роту эту песню, которую так любят петь парни. А потом песня полюбилась всем бойцам, и они часто пели ее тихо, на восточный лад, немного в нос. Девушка смотрела на политрука своими огромными, страстными, блестящими, как маслины, глазами, но Стева притворялся дурачком, делал вид, что ничего не замечает: ни белого девичьего лица, ни длинных черных кос, которые она нервно расплетает и заплетает. Стева развел часовых по постам (это важное дело он не доверял никому) и валялся на постели, сделанной из зеленых веток.
— Как эта зелень напомнила мне детство, — сказал Стева и глубоко вздохнул. — Отец всегда брал меня с собой в лес. Стоило мне остаться дома, я то с ребятишками подерусь, то с мачехой поссорюсь… Один раз я ей юбку подпалил… Хорошее было время, но каким далеким теперь оно мне кажется.
— Да, — согласился Космаец, растянувшийся рядом, и спросил: — Ты не слышал, как чувствует себя интендант?
— Жив еще, коли не подох.
— На войне интендантам лучше всего живется.
— В такой ситуации всякий осел может быть интендантом.
— Так же как и политруком, — пошутил Космаец.
Стева сначала взъерошился, потом побагровел, а взгляд у него стал тяжелым и серым, как туча.
— Вот только я не знаю, что бы ты, умник, делал, не будь на свете этого осла? — выдавил он. — Как жить бы стал?
— Уж во всяком случае не хуже, чем сейчас… И не голодал бы. И не будь ты ослом, то уж наверняка, нашел бы выход, — хладнокровно ответил взводный, продолжая глядеть на пушистое облачко, повисшее над горной вершиной, хотя отлично видел, что политрук обижен.
— Ах, так, значит, говоришь, не голодал бы, — политрук повесил планшетку через плечо, закинул на спину автомат, засунул руки в карманы, чтобы подтянуть брюки. — Нет, погоди, я тебе докажу, что я совсем не такой, как ты думаешь, уж сегодня мы попробуем жареного.
В детстве Стева почти никогда не выходил из дому через дверь. Он предпочитал выскочить в окно и показать мачехе язык. Теперь он тоже не искал калитку. Возьмет и пролезет между двумя кольями плетня или двумя жердинами, а чаще всего просто перепрыгнет ограду. Поэтому, наверное, брюки у него всегда имели такой вид, словно их собаки рвали. Вот и сейчас, он перепрыгнул через изгородь и задумался. Кто знает, удастся ли ему найти что-нибудь в этом мертвом селе. Его гнало злое упрямство, которое словно так и рождается вместе с сербами. «Я должен что-нибудь найти, если даже придется расстаться с этим черепком на плечах», — думал Стева, заглядывая во все уголки.
Но прошло больше часа, а ничего раздобыть так и не удалось. В лесочке он напрасно истратил несколько патронов, стреляя по фазанам, но это было все равно, что палить из пушки по солнцу. Он взбирался с холмика на холмик, перескакивал плетни, обходил сады, где дымили трубками часовые, нигде ничего… Был хороший, теплый, ясный августовский день, но из-за непривычной тишины он казался даже немного сонным. Устав от бесплодных поисков, с уныло поникшей головой, Стева случайно оказался на берегу реки, которая беззаботно петляла по лесу, закованная в каменистые берега.
«Эх я дурак набитый, — хлопнул он себя по макушке, — а где же партизанская смекалка?»
Он долго не шевелился, неподвижными глазами следил, как в воде сонно ходили жирные и ленивые рыбы, похожие на соленые огурцы в бочке. В детстве он вместе с чобанами часто ловил рыбу на Орляве и варил уху. Ее далекий густой запах защекотал ему ноздри, он даже облизнулся. Долго еще Стева смотрел на «живую уху», которая булькала в воде, и все не мог придумать, чем бы поймать рыбу. Эх, вот бы сейчас сеть, ну, на худой конец, удочку. На память опять пришло трудное детство, беспощадный отцовский ремень, подзатыльники, драные вихры. Больше всего на свете он ненавидел отцовский ремень и, уходя в партизаны, изрезал его на куски. Позднее он узнал, что фашисты схватили отца и шестерых братьев, спалили дом. Матери он не помнил, она умерла, родив ему девятого брата. Отец снова женился, привел в дом сербку католичку, она рожала каждый год по ребенку, а то и по двое. Наверное, поэтому Стева так и не знал точно, сколько у него братьев и сестер, иногда говорил, что семнадцать, иногда девятнадцать. Он считал себя самым счастливым из всех, а счастливому рыба сама идет в руки.
Читать дальше