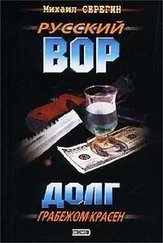Но еще жальче было дядю Ваню…
Бывало, в беседах с Константином Федосеевичем, в которых нет-нет да и засквозит предчувствие надвигающейся грозы, дядя Ваня, собрав на лбу тяжелые складки, говорил.
— Эх, Костя, твое дело молодое, тебя забреют сразу. Ну, и я еще повоюю… Не возьмут — сам пойду: пару носков — и ходу.
Почему именно пару носков должен был взять с собой дядя Ваня — Марийка не понимала, но, видимо, это имело какой-то смысл, раз так говорит дядя Ваня.
И в общем-то как в воду смотрел старый матрос. В одном ошибся. Незадолго до того как разразиться грозе, дядя Ваня, и раньше маявшийся ногами, слег окончательно и теперь не показывался не только на улице, почитавшей его как некую достопримечательность, но и на своем обычном месте — на лавочке возле домика. В растерзанных тревожных днях о нем как-то позабыли, только Марийка заскакивала к нему и была вроде вестового между дядей Ваней и тем миром, от которого его жестоко, несправедливо отрезала болезнь. Она подходила к нему, бесформенной, неподвижной горой возвышавшемуся на кровати, садилась рядом, он брал ее руки в свои большие, сохранившие силу ладони.
— Что там? Опять бомбят? Слышал, бомбят…
Глаза у него, как у ребенка, наполнялись влагой, одутловатое посиневшее лицо обидно и беспомощно морщилось. Он спрашивал Марийку, кто с их улицы ушел на войну. Марийка перечисляла, дядя Ваня скрипел зубами.
— Не зашли, не простились…
И тогда Марийка стала караулить у калитки. Завидев идущую группу людей — молчаливых мужчин с сухими, жесткими глазами, семенящих рядом, всхлипывающих женщин, она подбегала, звала их:
— Зайдите к дяде Ване, зайдите…
Многие действительно заходили. Он оживлялся, приподнимался на локтях, — сознание того, что о нем вспомнили перед уходом на войну, давало ему силы.
— Ступайте, ступайте… А я вот… — Он ворочал тяжелыми, как гири, плечами, будто выламывался из ненавистных оков, и снова падал обессиленный… — Больше не свидимся, братки.
Дядя Ваня чуял свой конец, и не близость смерти угнетала русского матроса, — все бы отдал он сейчас, чтобы его последний парад наступил среди бурных волн и орудийной пальбы, во мщении врагу…
Зашли проститься Константин Федосеевич с Васильком.
Дядя Ваня лежал в глубине комнаты, у растворенного окошка, за которым, пронизанные солнцем, застыли ветви акации. Они ярко светились, и блики от них падали на простыни, которыми был укрыт дядя Ваня, и от этого комната казалась темной, нежилой, да так оно и было на самом деле — жизнь, пусть со своей страшной бедой, вершилась там, за окошком, и даже эта беда была бы сейчас для дяди Вани его жизнью. Антонина Леопольдовна с Зосей, бледные, с красными от недосыпания глазами, сидели за пустым столом. Зинаида Тимофеевна с Марийкой оставались в дверях, к дяде Ване подошли только Константин Федосеевич и Василек. Марийка увидела, как мучительно сдвинулось лицо дяди Вани. Он дотянулся до ее отца, пригнул к себе его голову, и теперь не было видно лица дяди Вани, только тяжело выпрастывались слова из его груди:
— Больше не свидимся… Н-е-т… Эх, Костя…
— Что ты, Ваня! — растерянно говорил Константин Федосеевич. — Что ты! Разобьем фашистов и свидимся… Что ты!..
Дядя Ваня скрипнул зубами, отвернулся, чтобы никто не видел его слез, и вдруг взглянул на Марийку — глаза озорно сверкнули:
— Ты что куксишься? — Видно заметил, как оторопело она глядела на него. — Отца жалко?
— Тебя, дядь Вань.
— Меня-я! Чего меня жалеть! Будешь мне концерты показывать. Помнишь?
— Помню, — застеснялась Марийка того, что навсегда ушло в прошлое.
— Ну вот, а ты говоришь! — Он поднял глаза на Константина Федосеевича и Василька. — Ступайте, братцы, ступайте. И, как говорится, если смерти, то мгновенной, если раны — небольшой.
— Что ты, право, говоришь, побойся бога, — осторожно посетовала тетя Тося, сидевшая рядом с дочерью, видно плохо понимавшей, что происходит в комнате и не проронившей ни слова.
Дядя Ваня не посмотрел на жену.
— Бога! Бога! Молебен пет, да пользы нет… Насчет бога вон с монашками потолкуй. Ступайте, ступайте, — опять сказал он Константину Федосеевичу и Васильку, морщась, стал укладываться в ненавистной постели.
Когда выходили, Марийка страшилась оглянуться на дядю Ваню.
Тетя Тося с Зосей тоже пошли проводить новобранцев. Призывников собирали в Марийкиной школе, и строили их, еще не обмундированных — взрослых и совсем еще ребят, вроде Василька, на площадке, где еще недавно Зинаида Тимофеевна принимала нормы на значок «Будь готов к труду и обороне». Вокруг все как-то запустело, листья, припорошенные пеплом, были безжизненно тусклы. Школа стояла большая, молчаливая. Как давний сон, замельтешили перед Марийкой проведенные в ней дни, но сейчас школьные окна, уродливо перекрещенные бумажными полосами — чтобы не сыпались стекла при бомбежке, — глядели на нее темно, отчужденно: здание будто погрузилось в свои невеселые думы.
Читать дальше




![Михаил Горбунов - Белые птицы вдали [Роман, рассказы]](/books/202576/mihail-gorbunov-belye-pticy-vdali-roman-rasskazy-thumb.webp)