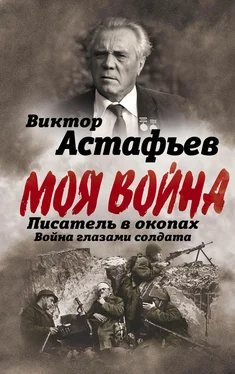1967 г.
Многое мне нужно рассказать о войне, о мною увиденной войне, и как это сделать, с какой стороны на войну зайти, надо подумать. Время нужно и пространство. «Страницы» в самом деле что то вычерпали во мне, какой то эмоциональный заряд, который можно было растянуть надолго, я в них выхлестнул, и этот источник, так долго меня питавший, иссяк. Попробую набираться материала и эмоций в современности. Только недоброе у меня к ней отношение и боюсь, что не пойдет у меня современность. Но есть война, война, хреновина одна…
1967 г.
Сердце мое – злой вещун и почти никогда попусту не ноет. Сегодня занесло меня в читальный зал, и там я посмотрел свой рассказ [«Синие сумерки»] в «Современнике». Что с ним сделали! Кажется, еще никогда так не выхолащивали, не изрубали и не искажали моего текста. Я ушел из зала шатаясь, и, когда пришел в столовую, две женщины, сидящие со мной за одним столом, сказали: «Виктор Петрович! Что с вами? На вас же лица нет!» Я не помню, что им ответил, попытался пошутить, но ничего не вышло. Так жестоко меня еще не предавали с текстом. И где? В «Современнике»! В журнале, который я хвалил как раз за честность, и из-за этого пошел туда.
Как жить? Как работать? Эти вопросы и без того не оставляют меня ни на минуту, а тут последние проблески света затыкают грязной лапой… Настроение ужасно. Мне хочется завыть и удариться башкой о стену. Будь же проклято время, в которое нам довелось жить и работать! Зачем Всевышний наделил еще каким то дарованием?! Для больших мук?! Для еще больших страданий?! Будто и без них мало! Мне давно-давно так тяжко не было. Я чувствую, как во мне что-то гаснет, притупляется. Боюсь стать равнодушным. Боюсь отупеть. А все идет к этому. Надолго ли еще хватит моей раздольной натуры? Моего юмора? Моей жизнеспособности? Всего этого остались крохи. Меня все чаще и чаще тянет быть одному, тянет к замкнутости, к погружению в самого в себя. Но это – конец художнику! Это уже буду не я, а кто-то другой станет водить моей рукой, а сердце будет молчать.
Страшно, когда лишаешься надежды… Я слишком пристально слежу за тем, что происходит в нашей литературе, слишком сторожко жду изменений к лучшему и даже пытаюсь внушить себе, что они есть, что они придвигаются, и вижу: самообман уже не помогает, что мы слишком часто прибегали к самообману раньше, и такое «лекарство» уже не годится. А другого нет.
Нас ждет великое банкротство, и мы бессильны ему противостоять. Даже единственную возможность – талант – и то нам не дают реализовать и употребить на пользу людям. Нас засупонивают все туже и туже. Мысль начинает работать вяло, покоряться. А чтобы творить, нужно быть бунтарем. Но против кого и против чего бунтовать? Кругом одни благожелатели, все к тебе вроде бы с добром, а потом «отредактируют». Руки опускаются. И жаль, что это ремесло невозможно бросить.
Ей-богу, будь у меня побольше сил – бросил бы. В лес ушел бы и прожил остаток дней в радость себе. Неужели ж я не заслужил такой почести: жить хоть десяток лет для себя?! Неужели постоянно должен мучиться своими и чужими муками, никому и ничего не дающими, кроме новых мук?!
1967 г.
Литература вступила в такое отношение с обществом, что тут без борьбы уж не обойтись, и морды в кровь скоро будут бить всем нам, но и мы кой-кого в бараний рог согнем, отрасли зубы-то! Писатели, особенно бывшие фронтовики, – народ упрямый, их не больно запугаешь. Солженицына вон как бьют, а он борется, отстаивает свое право называться человеком, да еще и нам в этом деле помогает…
1967 г.
…Читаю очень хорошую книжку о Лермонтове – Ивановой. Читаю и ахаю, уж такая неподходящая земля – Россия для гениев, так она их терзает, а они нет нет да и появляются на беду свою. Горькая книга, страшная судьба поэта…
1967 г.
С самого этого грустного съезда [«СП»] что то навалилось на меня – хоть в петлю лезь. Наверное, с непривычки, а может, оттого, что по наивности своей ещё чего то ждал, надеялся… Увы, мне стало тогда понятно, что ничего не будет. Так во лжи и прекраснодушии и пребывать нам до скончания.
Худо было мне. Ничего я не писал, ничего делать не мог. Съездил в Латвию – ещё хуже стало, ибо увидел, как мы, русские, отстали даже от латышей в почитании человеческого достоинства, как мы плохо живём, как низменны в помыслах своих и житейских бурях.
Худо было мне, а от меня худо остальным. Оба два дитя моих сдавали экзамены в университет, а если точнее, так их завалили, лишь только потому, что они дети писателя. Обывательская ненависть к нам всё возрастает оттого, что мы не ходим на работу по гудку и, как им кажется, живём независимо и никому не подчиняемся, тогда как они, обыватели, себя пупами земли считают. Вот и бьют в зубы сначала деток, а потом, глядишь, и нас на фонарях повесят, ибо: «Накорми чернь хлебами, и она побьёт камнями пророков своих».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу