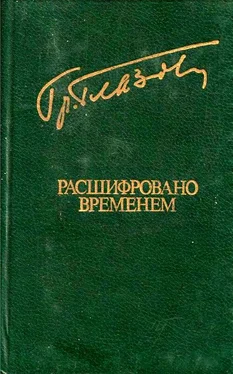Лес был темен. Мокрые деревья, мокрые кусты, под замшелыми бугорками пористый снег, оседала под сапогами мякоть сопревших листьев. И тишина. Лишь редкий царапающий звук цепляющихся друг за друга голых, ревматически изломанных ветвей.
Саша уходил в глубь леса, в надежную сомкнутость деревьев.
Он не был новичком на войне, и тем не менее ежедневные испытания, которыми она проверяла его человеческие возможности, порой гнули так, что силы, казалось, истрачены до конца. И все же чем-то они всегда пополнялись из неведомых запасов, бывших в нем самом, но о существовании которых он как бы и не знал. Шел ему двадцатый год, и после школы война вдруг стала единственной его наставницей на все случаи жизни.
Саша был рад, когда весной сорок второго с командой других мальчишек в обносившихся костюмчиках, с рюкзачками, сшитыми наспех мамами из плотных наперников или старой мешковины, он прибыл в военное училище связи. Веселый и общительный, он сразу, еще будучи в карантине, нашел друзей, позже любил ходить патрулем в гарнизонный наряд, когда можно было покрасоваться перед городскими девчонками курсантской выправкой и щегольской по тем временам курсантской формой. Учили их основательно, почти по программе мирных дней, а не так скоропалительно, как в пехотном или танковом, находившихся в этом же городе. Однако доучиться не пришлось: их роту внезапно отправили на Урал, на краткосрочные радиокурсы. Саша сперва огорчился, но затем успокоился, полагая, что уж после этих курсов непременно попадет в разведывательно-диверсионную часть: не зря же их, хорошо подготовленных в училище, перебросили вдруг еще и на специальные радио курсы, где он и другие ребята могли бы сами кое-что уже преподавать тем, кто прибыл сюда на недолгий срок прямо после призыва.
С этой будоражившей надеждой он и прибыл на фронт, но был удручен, обижен и даже растерян, когда оказался в отдельном артиллерийском полку тяжелых гаубиц. Работать здесь приходилось только микрофоном — повторять и передавать артиллерийские команды, в смысле которых он поначалу совершенно не разбирался, а кроме того, страдало и самолюбие радиста высокого класса, принимавшего на слух и передававшего ключом в минуту до двадцати двух групп смешанного текста. Но война заставляет забывать и не такие обиды. Вскоре он стал комсоргом дивизиона. А как человек легкого и уживчивого нрава, Саша утешался тем, что, будучи радистом взвода управления, мог выбрать время и надеть наушники. Изредка, прикрыв глаза, слушал он трескотню чужой морзянки или же сам брался за ключ и лихо выстукивал воображаемому адресату радиограммы, предварительно, конечно, отключив передатчик.
Сейчас, осторожно пробираясь лесом, он вспоминал все свои прежние невезения, ребячески смешные и пустые теперь, когда далеко-далеко за спиной на мокром поле остался лежать мертвый Муталиб, а сам он, Саша, одиноко, ловя каждый звук, бредет в неизвестность…
В один и тот же лес они вступили с интервалом в час: сперва Саша, затем — Белов, вошли, не ведая о существовании друг друга.
Белов сразу обзавелся оружием: выломал увесистую сырую палку. Часто озираясь, он недоверчиво продвигался вперед, придерживая шаг там, где кусты были погуще, а деревья теснее жались друг к другу. Лес не внушал ему доверия, как место, где укрытия ищет не только дичь, но и охотник. И это чувство все время толкало Белова к полянкам и прорубкам, тут глазу его, привыкшему далеко и зорко видеть в открытой степи, было легче просматривать даль, нежели предугадать, почувствовать опасность в таинственной путанице кустов, за которыми темнели деревья, а дальше — опять непроглядные кусты и снова — сомкнутые стволы, хотя он и понимал, что именно густой лес и есть самое надежное место.
Нестерпимо донимал голод. Тощий вещмешок был пуст. Пошарив поначалу по кустам палкой, а затем разбирая упругие стебли пальцами, Белов неумело попытался отыскать ягоду. Не сразу, но все же нашел несколько сморщенных черничин, затем еще; в ежевичных зарослях повезло больше — набрел на щедрую делянку, давно обмежеванную под вырубку, где на веточках омертвело синели мелкие усохшие комочки. Он быстро обобрал все, что мог, присев на корточки, не побрезговал и осенним оброном, еще не сгнившим, мокнущим на палых, почерневших листьях.
Тревога, мысль об уходящем времени в конце концов согнала его с места, и Белов двинулся дальше, наверстывая потерянные минуты. Постепенно привыкая к тишине и шорохам леса, он думал теперь лишь о том, как бы не заблудиться, — лес уже обжимало первое дыхание сумерек короткого дня, а ночлега себе Белов еще не придумал…
Читать дальше