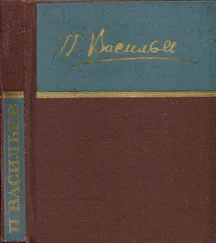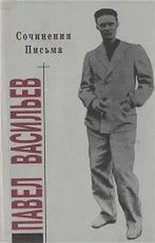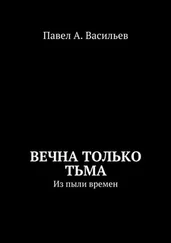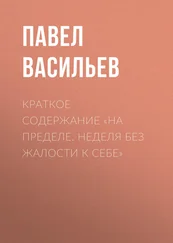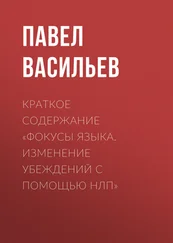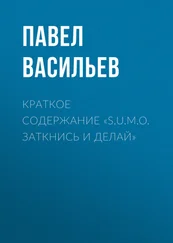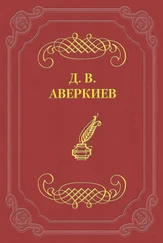И мне не спится. Я не могу уснуть. Все кажется, что я должен бежать куда-то, что-то делать. Как-то не верится, что я дома. Вспоминаются мне деревня и те, кто остался там, моя тетя Настя, у которой я жил после смерти бабушки, ее пятилетний сын Сашка.
А в полночь, когда утихла квартира, утих дом и на улице стало тихо, я выхожу в коридор и неожиданно снова вижу Глафиру. Босая, в одной длинной белой рубашке, она стоит в углу возле окна, упершись в стены своими могучими руками. Стоит, уронив голову, и по-мужски, без всхлипываний, глухо, утробно плачет. Плачет, таясь от всех. А за ней в углу стоят Митины удочки.
2
Я просыпаюсь рано, еще нет шести. Меня будит мама, она собирается на работу и до работы хочет еще свести меня к папе. Удивительные изменения произошли за мое отсутствие: моя мама, бывшая закройщица модного перворазрядного ателье, теперь работает где-то на заводе грузчиком, а мой папа, столяр-краснодеревщик, — кладовщик в столовой.
Мы завтракаем. Точнее — я, а мама сидит рядом и смотрит на меня.
— Ты ешь все, ешь, не оставляй. А я чай буду пить, — говорит она.
И я все съедаю, а она лишь пьет чай с сахарином. Бросает в стакан таблетку, которая моментально тает.
Потом провожает меня до столовой, где работает папа. Столовая оказывается закрытой, на дверях висит амбарный замок.
— Ну вот, постой, подожди его здесь. Он, по-видимому, скоро придет, — говорит мама.
И уходит. Но уходит не сразу, кажется, хочет у меня что-то спросить или что-то сказать, но так и не решается.
Столовая расположена в подвальном помещении, в нее, как в погреб, ведет узкий спуск.
Еще по-утреннему прохладно. В подворотнях таится ночная синева. Шаги прохожих еще гулки, а двухколесные ручные тележки, которые катят к булочным и магазинам, гремят на всю улицу. Стоять скучно, и я тихонько бреду вдоль улицы. Заглядываю во дворы, загроможденные поленницами осиновых дров, обитых жестью, опутанных проволокой. Позвякивая ключами, проходит дворничиха, открывает запертые на ночь двери парадных. Через улицу переговаривается с другой дворничихой:
— Дмитриевна, пойдем в баню. На Мытнинскую дрова привезли, весь день теплая вода будет.
— Да, как в прошлый раз, и холодная-то не текла.
— Это в Смольнинской, а тут директор такая холера — в ладошках согреет. Мыло отоварила? По какому талону дают?
Я останавливаюсь возле газетных стендов и долго рассматриваю газету, читаю. Все для меня удивительно, необычно, как будто вижу впервые. Все — первооткрытие. И в то же время я как будто встречаю старых друзей. Всему радуюсь. Радуюсь, что вижу вот газеты, висящие на стендах на улицах, как висели и до войны, радуюсь, что умею, не разучился читать, что вижу дворничиху и что у дворничихи к переднику приколот милицейский свисток. Радуюсь всему.
Когда я возвращаюсь, столовая оказывается открытой. Робея, толкаю дверь и вхожу в полутемное помещение. Пусто. На столах ножками вверх сложены стулья. Какая-то женщина в темно-синем рабочем халате моет пол.
— Ты чего? — не разгибаясь, спрашивает она и, шуруя тряпкой направо и налево, спиной движется ко мне.
— К папе.
— К кому? — она оставляет тряпку. — А как фамилия?
Я называю.
Тетка выпрямляется, вытирает руки о халат и, поправляя выбившуюся из-под платка прядь волос, недоверчиво смотрит на меня:
— Так говорили, у него сын погиб?
— Нет.
— Значит, ты и есть? — Она осматривает меня с ног до головы. — Ну да, конечно… Похожи… С матерью живешь? Мамочка-то, верно, от сердца не оттолкнет… Да ты подожди. Нет отца. Он на базу уехал. Погуляй где-нибудь, а потом придешь. А хочешь, здесь подожди. Похож на отца, вылитый!
Я выхожу из столовой, а тетка с порога смотрит на меня. Потихоньку бреду по улицам и оказываюсь возле Таврического сада. Часть его отделена проволокой. И там, за ограждением, из-за бруствера торчат стволы зенитных пушек… Ходит солдат с винтовкой. А по эту сторону ограждения, по всей бывшей поляне, по берегам канавы — грядки, грядки, грядки, разгороженные поставленными на бок ржавыми кроватями.
Пробродив больше часа, возвращаюсь в столовую.
Теперь в ней многолюдно. У входных дверей толпятся женщины, кто с бидоном, кто с кастрюлькой, с набором стеклянных баночек.
Как только я вхожу, официантки, быстро переглянувшись, перешептываются между собой.
— Вы к Савельеву? — спрашивает одна из них. — Папаши еще нет.
И тотчас появляется полная рыжая женщина. Она стоит у распахнутой боковой двери и, вроде бы растерявшись, не может решить, что же ей делать, переступать порог или нет.
Читать дальше