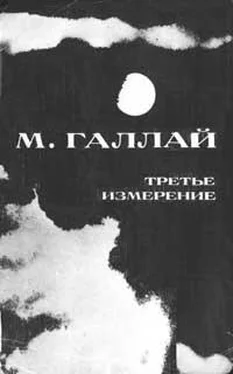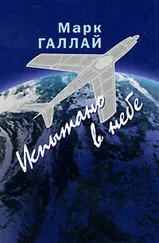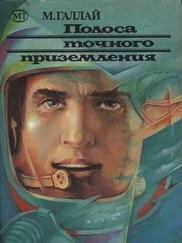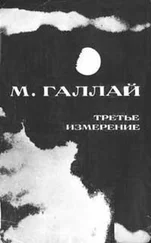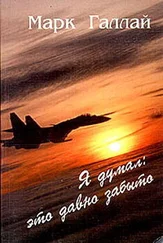И, как всегда в подобных грустных случаях, захотелось вспомнить прежде всего даже не профессиональный облик этого выдающегося испытателя, а просто Юру Гарнаева — нашего друга и товарища.
...В последние годы жизни, когда его имя начало часто появляться в печати, когда со страниц журналов на нас то и дело стали смотреть его портреты, когда в любом собрании фраза «Слово предоставляется Юрию Александровичу Гарнаеву» встречалась дружными аплодисментами, многие люди, узнавшие его лишь в это время, искренне считали, что он «счастливчик», человек, которому в жизни сильно повезло.
Что ж, вообще говоря, можно с этим и согласиться. Каждый летчик-испытатель считает, что ему повезло.
Но свое везение Гарнаев сделал себе сам. Сделал собственными руками, вопреки многим и многим, весьма неблагоприятным для этого обстоятельствам.
Достаточно напомнить, что по разным (одинаково неуважительным) причинам дважды в своей жизни он был вынужден оставлять летную работу и с немалым трудом доказывать свое право вновь вернуться к ней.
Особенно тяжело дался Гарнаеву второй из этих вынужденных перерывов, о котором мне уже доводилось писать.
В чью-то инициативную голову пришла идея «проверить» личный состав наших летчиков-испытателей: насколько, так сказать, надежны руки, которым доверены многомиллионные опытные и экспериментальные самолеты. Инициативная голова нашла себе влиятельных союзников, и проверка развернулась полным ходом. И не то, конечно, плохо, что такая проверка была затеяна, а то, какона проводилась.
К сожалению, основным ее критерием послужили не живые дела «проверяемых», а прежде всего их анкеты. Нет надобности перечислять номера всех анкетных пунктов, по которым шло разделение на «чистых» и «нечистых». Увы, последних в нашем коллективе оказалось числом поболее, чем первых, так что кадры испытателей были признаны недопустимо «засоренными». И, как нетрудно догадаться, среди преданных остракизму оказался и Гарнаев: на фоне завидной безупречности всех прочих пунктов анкеты пункт: «Привлекался ли ранее...» — выглядел у него существенно подпорченным.
У Гарнаева изъяли пропуск на аэродром. Только из-за ограды он мог видеть, как взлетают, уходят в зону испытаний, возвращаются, заходят на посадку те самые самолеты, теплые штурвалы которых всего несколько дней назад дрожали в его руках. Отрываться во второй раз от любимого дела оказалось едва ли не тяжелее, чем в первый. Хотелось закрыть глаза, скрыться, уехать прочь, не видеть всего, что приходится с кровью отдирать от своего сердца!
Но сердце сердцем, а слушать его биение без контроля со стороны разума и воли нельзя. Это Гарнаев понимал отлично. Понимал, а потому... принял предложенную ему должность заведующего институтским клубом.
Целый год ежедневно приходил он на службу в расположенное тут же, у самой ограды аэродрома, здание клуба. Составлял репертуар киносеансов, организовывал самодеятельность, следил за своевременным обновлением плакатов и лозунгов — словом, делал все, что положено добропорядочному завклубом. Делал аккуратно, старательно, я сказал бы даже — с душой, если бы его душа прочно не осталась по ту сторону ограды, на аэродроме (благо ей, как субстанции нематериальной, пропуска для этого не требовалось).
Это было, конечно, настоящее самоистязание. Но в конце концов оно себя оправдало. Прошла та смутная пора, и Гарнаева вернули за штурвал.
Правда, не сразу за штурвал.
В качестве своеобразной (мы сейчас увидим, что весьма своеобразной) ступени к этому Юрию Александровичу пришлось заняться испытаниями катапультируемых сидений.
Дело в том, что покинуть, в случае нужды, скоростные самолеты послевоенных образцов добрым, старым способом — перевалившись наружу через борт — стало невозможно. Этому препятствовал мощный поток встречного воздуха, который буквально вдавливал летчика обратно в кабину. Не почувствовав самому, трудно представить себе, насколько непреодолимо силен, хочется даже сказать — тверд воздушный поток.
Создавалось парадоксальное положение: парашют у летчика есть, но спастись на нем он не может.
Как всегда, на помощь пришла техника. Были разработаны конструкции специальных катапультируемыхпилотских кресел, на которых можно было выстрелиться наружу, чтобы потом, отделившись в воздухе от кресла, раскрыть парашют и благополучно спуститься на землю.
Легко сказать — выстрелиться! Нет нужды доказывать, насколько, мягко выражаясь, сильны ощущения человека, применяющего такой способ спасения. Резкий удар снизу, грохот выстрела, пламя, дым, тут же второй, не намного менее сильный удар о встречный поток воздуха, кувыркание в свободном падении... Словом, до начала плавного спуска на парашюте летчику приходилось пройти через многое. И тем не менее другого, более деликатного способа спасения найти не удалось. В последующие годы стало ясно, что катапультирование себя решительно оправдало.
Читать дальше