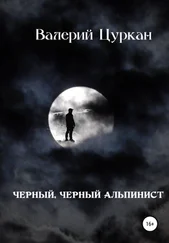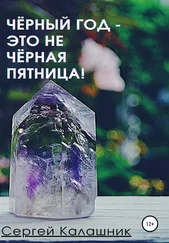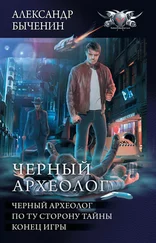Память о жертвах атомных бомбардировок концентрируется в Хиросиме и Нагасаки, но отнюдь не ограничивается лишь ими. Уникальную коллекцию — свыше 500 книг и брошюр, посвященных трагедии Хиросимы, а также много журнальных и газетных статей о последствиях атомных бомбардировок — собрал X. Нагаока, житель японского города Хоя. Эту коллекцию он передал городской библиотеке. «Я начал сбор такой литературы еще в 1950 году, когда приехал в Хиросиму поступать в местный университет,— рассказал X. Нагаока.— Представшие тогда моему взору ужасные следы недавней атомной бомбардировки потрясли меня. Я обошел руины и подобрал на память несколько оплавленных атомным взрывом обломков черепицы, которые до сих пор хранятся в моем доме. Судьба Хиросимы глубоко запала мне в душу, хотя я не являюсь жертвой атомной бомбы. Кое-кто в Японии уже начинает забывать уроки минувшей войны, в том числе атомные бомбардировки, поэтому я решил осуществить свой замысел по созданию библиотечки о хиросимской трагедии и передать ее в общее пользование жителям моего города».
Чудовищно, что на обожженной атомным смерчем японской земле находятся силы, которые хотели бы не только сами забыть взметнувшийся над Хиросимой атомный гриб, но и стереть из народной памяти горькое прошлое, заставить предать забвению причины, которые привели Японию к трагедии. Эти силы в основном ориентируются на молодежь, которая не знает ужасов войны.
Определенные японские круги предпринимают изощренные попытки возродить самурайский дух, шовинистические, милитаристские и реваншистские настроения, переписать школьные учебники по истории с целью устранения из них критики захватнических походов императорской армии и всякого упоминания об атомных бомбардировках. Они стараются оправдать присутствие военных баз США на японских островах и размещение здесь американского ядерного оружия передового базирования, что превращает Японию в источник угрозы для соседних стран и автоматически — в мишень для ответного ядерного удара в случае возникновения конфликта.
Особую тревогу вызывают усилия навязывать подобные опасные взгляды художественными средствами: в литературе, театре, кино с их могучим даром эмоционального воздействия. Дело дошло до того, что кое-кто в Японии пытается чернить литературу об атомных бомбардировках, утверждая, что произведения о трагедии Хиросимы и Нагасаки «приносят огромный вред и отражают лишь настроения раскаивающихся японцев, осуждающих минувшую войну...». Подобная тенденция получила название «новой волны». Ее сторонники призывают японских писателей изображать войну не только с позиции ее жертв, но и с позиции солдат-убийц. Их меньше всего интересуют моральные и психологические последствия войны. Их занимает лишь стремление человека к злу как «естественное проявление звериного инстинкта». Они — сторонники проповеди культа силы и жестокости.
В такой обстановке как никогда прежде возрастает роль антивоенной литературы, защищающей гуманистические позиции, особенно произведений, посвященных атомной трагедии двух японских городов. Известный писатель Японии Кэндзабуро Оэ в своих «Хиросимских записках» отмечает: «Хиросима — кровоточащая рана человечества. На ее искромсанном теле прорастают два побега: надежда на возрождение человечества и угроза его полного гниения». И именно от размаха или свертывания антивоенной литературы во многом будет зависеть то, какой из этих побегов сможет набрать силу.
За четыре десятилетия написано множество книг, повествующих о трагических человеческих судьбах, искалеченных атомной бомбой. В японском литературоведении появился даже новый термин «гэмбаку бунгаку» («литература об атомной бомбардировке»). Первые произведения на эту тему создавались по свежим следам, среди еще дымившихся развалин, в «атомной пустыне». Причем нередко писались они на обрывках газет, на клочках сорванных со стен обоев. Поэты и писатели, ставшие очевидцами адской вспышки ярче тысячи солнц, спешили поведать миру о еще не бывалой трагедии. Они тогда еще и сами не знали всех чудовищных последствий атомного взрыва, не понимали, почему хиросимцы, которым удалось спастись от ударной волны и пожаров, через некоторое время погибали от неизвестного недуга. Потом недуг этот стал называться «лучевой болезнью». Произведениям начального периода были присущи заметная детализация в описании самого взрыва, всех последовавших за ним ужасов, максимальная документальность, порой даже излишний натурализм.
Читать дальше
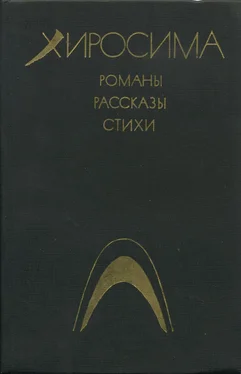
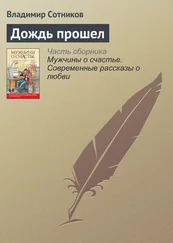

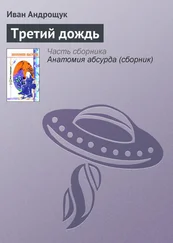
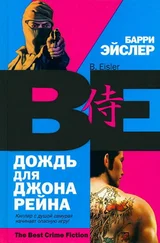
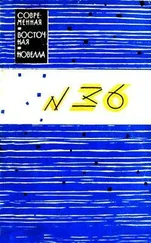
![Александр Быченин - Чёрный археолог - Чёрный археолог. По ту сторону тайны. Конец игры (сборник) [litres]](/books/429193/aleksandr-bychenin-chernyj-arheolog-chernyj-arheolog-thumb.webp)