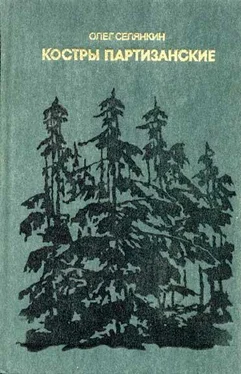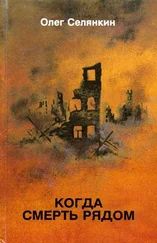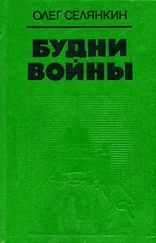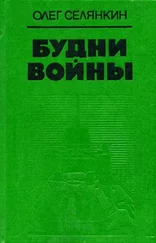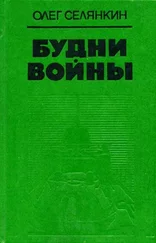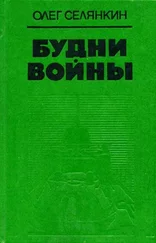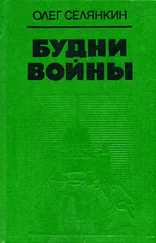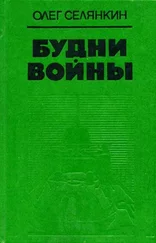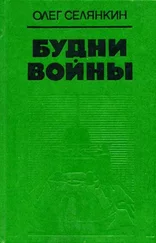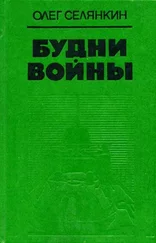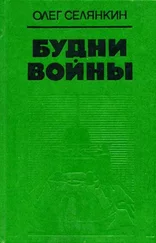И еще один стоит здесь, в комнате, стоит у самой двери. Она лишь прикрыта, и за ней слышны голоса немцев.
Разве убежишь при такой охране? Да если еще и в ноги ранен?..
Двое суток его не тревожили ни допросами, ни просто вопросами. Двое суток трижды в день и точно в одно и то же время приносили еду (скорее всего — из офицерского котла), один раз в сутки к нему обязательно являлся врач-пузан, щупал пульс и уходил, буркнув что-то немцу с лошадиным лицом, который обязательно сопровождал его.
Больше никого и ничего. Лежи и думай, капитан Кулик, думай о своем житье-бытье, о своей безрадостной судьбине.
Немцам, которые неустанно наблюдали за ним, должно было казаться, что русский уже сломлен, уже примирился со своей участью: так безропотно он выполнял все немногие распоряжения. И от еды не отказывался, и курил лишь тогда, когда ему разрешали это, и даже вымылся в корыте, даже нижнее белье сменил. Уцепился лишь за гимнастерку со «шпалами» в петлицах.
Не знали, не догадывались враги, что капитан Кулик, притворившийся сломленным, все думал, думал. Он не сомневался, что близок его последний час. Знал, что этот час будет невероятно тяжелым. Даже страшным. И готовился встретить его.
А что касается угрозы немецкого офицера…
Не его, капитана Кулика, вина, что пока не выпало ему свершить что-то героическое, что пока он не вписал в свою биографию ни одной яркой странички…
А ведь может! Ведь он пока еще живой!
Он с отчетливой ясностью именно в эти двое суток вдруг понял: любую смерть можно принять так, что она возвеличит или напрочь сничтожит тебя. Главное в смертный час — не показать врагу, что дрожит все в тебе, что жить тебе страсть как хочется.
Сможешь осилить такое — значит, достойно умрешь. Как солдат на поле боя.
И все равно — повесят ли, на медленном ли огне сожгут тебя враги — велик ты в своем подвиге будешь.
Достойно умереть, умереть так, чтобы даже смерть твоя напугала врагов, — одно оставалось капитану Кулику. Вот и берег силы для главного, не спорил по мелочам.
К исходу третьего дня, когда от него уже ушел врач-пузан, в горницу вбежали два полицая, вырвали его, Кулика, из постели и волоком протащили через двор в подвал двухэтажного дома, бросили на холодный бетонный пол в коридоре, куда выходило несколько дверей, обитых железом. Бросили на пол и словно забыли о нем.
За дверью, около которой на полу оказался капитан Кулик, надрывно кричала женщина. Кричала от боли, которая мутит сознание, заставляет забыть, что ты — человек.
Капитан Кулик уже было подумал, что и его сейчас бросят в одну из таких камер, чтобы он тоже, как эта женщина, исходил криком, но тут в подвал не спеша спустились немцы. Один из них гневно что-то сказал тому, кто командовал полицаями, а еще через несколько секунд его, капитана Кулика, бережно уложили на носилки, укрыли одеялом и понесли.
Потому, что носилки появились очень быстро, да еще с одеялом, и потому, что на лице того полицейского чина, на которого кричал немец, не было ни страха, ни раскаяния, капитан Кулик понял: все это — инсценировка, цель которой — окончательно подавить его волю к сопротивлению.
Ведь женщина-то от боли кричала по-настоящему…
Его внесли в кабинет, на двери которого была табличка с надписью на русском и немецком языках: «Господин комендант района».
Едва носилки коснулись пола, из-за стола поднялся тот самый офицер, которого Кулик видел ночью. Подошел и уставился глазами-стекляшками. Молча, будто гипнотизируя.
Когда ты лежишь и смотришь на стоящего человека, невольно начинаешь чувствовать себя слабым по сравнению с ним, даже беспомощным, беззащитным, и, чтобы не поддаться этому чувству, капитан Кулик попытался хотя бы сесть.
— Хотите сидеть? Здесь? Или там? — Кивок на стул, примостившийся к торцу письменного стола; говорил комендант почти без акцента.
— Лучше там.
Его осторожно усадили на стул. Чуть шевельнулась бровь коменданта, и все вышли из кабинета. Только комендант и он, капитан Кулик, остались с глазу на глаз. В соседней комнате часы гулко пробили шесть раз.
— Как ваше самочувствие? — участливо спросил комендант.
— Спасибо, нормально, — спокойно ответил Кулик, стараясь сберечь силы для того момента, который неизбежно наступит.
— Раны не беспокоят?
— Терпимо.
— Есть претензии? На питание? Обращение?
— Все в норме.
— А за сегодняшнее недоразумение извините. Если быть откровенным, начальник полиции у нас иногда своевольничает. Интересно, почему вы, русские, так ненавидите друг друга? Я имею в виду тех, кто придерживается противоположных политических взглядов?
Читать дальше