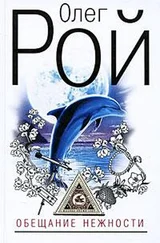— Хозяин не приказывал тебя провожать?
— Не приказывал. Да и зачем? Дойду.
— Дойдешь, не ребенок, — сказал адъютант и протянул вялую, пухлую ладонь. — Бывай.
— Будь здоров.
Макеев повернулся, побрел по примятой траве. Она была в вечерней росе, и сапоги по щиколотки отмылись от пыли, потом трава пошла высокая, и сапоги отмылись по ушки, бриджи и то намокли на коленях. На ветках росы еще не было, они сухо, с оттягом, хлестали по плечам. Макеев уклонялся от них и думал, как бы не заплутать, и какая странная, короткая беседа произошла у него с командиром полка. И с чего пришла полковнику мысль пригласить его на адъютантскую должность? Не в этом суть, что иные считают ее денщицкой, холуйской, это глупость и бред, суть в другом: он хочет своего, самостоятельного дела, пускай хотя бы и такого маленького, как взводное командирство, а в адъютантах — он никто.
Часовые окликали Макеева, и это не дало ему заблудиться. Он отыскал свою роту. У костерка сидел на корточках Ротный и прикуривал от головешки. Затянувшись, встал и спросил:
— Вернулся?
— Как видите, — сказал Макеев, сознавая: грубо говорит, необъяснимо и непростительно грубо.
Но Ротный словно не заметил этой грубости. Он пыхнул дымком, отгоняя комарье, вполоборота повернулся к Макееву:
— Докладывай.
Макеев в нескольких словах передал разговор с командиром полка. Ротный не стал выспрашивать подробности, буркнул:
— Правильно поступил, что отказался. Испытывая стыд за свою грубость, Макеев сказал:
— Я рад, товарищ старший лейтенант, что вы такого же мнения. Очень рад!
— Так уж и очень? — Ротный швырнул окурок в костер. — Ложись спать. Да и я пойду.
Высоко и сторожко подымая босые ноги, чтобы не наколоться, он подошел к лежбищу, улегся возле ординарца — спина к спине. Макеев осмотрелся. Все спали. Попарно. Спина к спине — так теплее. Вероятно, лишь один он в роте спал отдельно. Блюл офицерское достоинство. А Ротный и остальные взводные не блюли? Выходит, так. Глупо выходит, Макеев. С твоей стороны глупо.
Он постоял, глядя в умирающий огонь, достал сверточек, полученный у Гуревича, запил порошок и таблетку из фляги, опять поглядел на головешки. Они утрачивали яркость и жар, жидко дымили, подергивались пеплом. А порошок и таблетка — дрянь на вкус. Ничего, зато должны помочь. Горьким лечат, а сладким калечат — гласит народная мудрость. Снял сапоги, посушил портянки. Снова намотал их, надел кирзачи: босым ночью не спал — зяб. Народная мудрость гласит: утро вечера мудренее. Потому спать. Как шутит Илья Фуки: спать, спать, старуха.
Макеев расстегнул хлястик шинели, на одну полу лег, второю укрылся. На уши натянул пилотку. Под голову — вещмешок. Лежал на боку, подтянув колени к подбородку, спиной к костру, но он уже не грел. Знобко! Ломило в затылке и висках, горло болело, сохло, ныла поясница, и все тело — как после побоев. Проснуться бы утречком без всякой хвори. Чтоб каждая мышца поигрывала и чтоб душа пела. Чтоб ощутить себя здоровым, молодым, полным жизненных сил и счастливым.
И вдруг это предощущение счастья померкло, будто заслоненное тучей: Макеев вспомнил об отце. Эти воспоминания вторгались в его каждодневную жизнь внезапно и болезненно. Что с отцом? Погиб? Или в плену? Не может быть! Он жив, он где-нибудь в партизанском отряде, во вражеском тылу, просто почему-либо не дает знать об этом. Пропал без вести — еще не значит, что убит. И Макеев уверяет себя: отец жив, воюет сейчас, как и сын, они вместе воюют, хотя и по-разному. Как будто отец рядом, плечо к плечу. Но у макеевского плеча никого нету, эта пустота леденит, и ноет сердце, и надежда, радость, счастье — все отодвигается, задергивается тучей, которая разрешится холодным дождем или снегом.
* * *
В это время, когда Макеев, подтянув коленки к подбородку, думал об отце, полковник Звягин расхаживал по палатке. Под подошвами похрустывал лапник, устлавший пол, сочились густые запахи хвои. Он только что отпустил замполита и начальника штаба. Они пришли сразу после ухода лейтенанта Макеева, и он с ними за четверть часа решил текущие вопросы. Они удалились, утомленные, украдкой зевающие, а он снял китель, набросил на плечи шинель и ходил так, покуривая трубку и сквозь табачный дымок ловя широкими ноздрями смолистый еловый дух.
Было приятно, что остался наконец один, что никто больше не придет: адъютанта и ординарца отпустил спать; за стенкой палатки ходил часовой, — но он не в счет. Оставаясь наедине с собой, Звягин испытывал облегчение; с тех пор, как приехал в этот полк, все мерещилось: смотрят на него с насмешливым любопытством, подковыристо смотрят, а кто и сочувствует полковнику Звягину, жалеет неудачника. И то и другое злило, угнетало. Пожалуй, лишь замполит относился к нему как ни в чем не бывало. Ну, замполиту положено… А возможно, и прочие относились нормально? Не преувеличивает ли он значения боковых, косых взглядов, не мнителен ли? Как бы там ни было, остаться в одиночестве — удовольствие.
Читать дальше