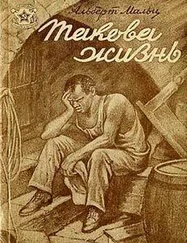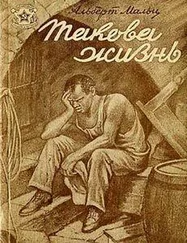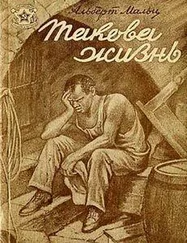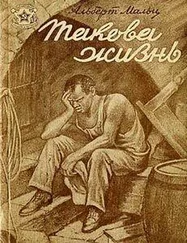— Что может породить, — сердито проворчал Цодер, — что может породить такой зачумленный народ, как наш? Один человек саботирует. Другой пишет на стенах умывалки. Разве это что-нибудь значит по сравнению с общим моральным разложением?
— Да! — страстно воскликнул Фриш. — Люди далеко не ангелы, это верно. Но если человека можно повести по пути зла, то можно направить и на путь добра. В своем историческом развитии Человек великолепно шагнул вперед, но, увы, иногда он делает шаг назад. Неужели вы этого не понимаете? Я говорю уже не о нашем немецком народе. Я говорю о Человеке. В концлагере я увидел, до какой степени унижения можно довести людей. Но зато я узнал, сколько в людях благородства. А если одни могут быть подлецами, а другие благородными, — значит, благородными могут быть все. Вы думаете, я считаю себя ни в чем не виноватым? Тысячу раз нет! Почему не восстал мой дух, когда убили первого еврея? — Фриш вдруг стукнул себя кулаком в грудь. — Я молчал, и вы тоже молчали, и молчал весь мир! Среди моей паствы не было евреев, и я никогда не считал их своими кровными братьями. А почему? Потому, что моя милая добрая мать внушила мне глупый, бессмысленный предрассудок, который когда-то переняла у своей матери… Потому что даже в моей богобоязненной семинарии существовал этот предрассудок. И только когда веревка захлестнулась вокруг моей собственной шеи, а на груди появилась бессмысленная надпись: «Я — еврейский прихвостень», — только тогда я понял, что сам накинул себе на шею эту петлю, что после моего молчания это было неотвратимо, как наступление ночи после дня.
По хрупкому телу Фриша пробежала дрожь. Он протянул руки, словно моля о чем-то.
— Но таков человек, Цодер, и таковы его заблуждения; никакому народу, пусть даже доведенному до отчаяния своими бедами, не свойственна такая бессмысленная тяга к самоистреблению. Я не прошу вас верить в доброту человека, такого, как он есть, но верьте в его потенциальную доброту, в то, что он может быть хорошим, если общество перестанет толкать его на путь зла. Он заслужил пожалованный ему крест. Это не было комедией. В этом горькая ирония человеческой судьбы. Вы думаете, другие народы и другие правительства не несут ответственности за существование этого немецкого чудовища? Что они сделали, чтобы спасти Чехословакию? Где была совесть человечества во время событий в Испании, в Мюнхене?
Фриш порывисто прижал ладонь ко лбу.
— Говорю вам, Цодер, человеку трудно быть добрым. Кто он, человек? Существо, пришедшее из первобытной дикости. Ему пришлось учиться обращению с огнем, с самыми простейшими орудиями труда. С каждым шагом он несет на себе груз наследия от своих диких предков. Он медленно нащупывает путь к добру, потому что он всего-навсего человек и не обладает сверхъестественным разумом. Он часто поклоняется ложным богам, но что же тут можно поделать? Он ограничен своей человеческой сущностью и жизнью, для которой он рожден. А вокруг всегда находятся люди, стремящиеся испортить его, люди, которые учат его быть покорным, учат безропотно повиноваться велению ложных богов; и тогда он будет убивать евреев и вести войну для тех, кто управляет им, как марионеткой, и, вконец одурманенный, станет твердить: «Я добиваюсь справедливости, я охраняю свою родину…»
Фриш беззвучно заплакал. Сняв очки, он продолжал:
— Вот я сижу здесь, почти слепой. Я болен. Тело мое разрушили люди. Я не знаю своего будущего. Я не предсказатель. Сейчас — лето серок второго года, мир охвачен войной. Если победит Германия, не известно, что станется с Человеком на протяжении многих поколений. Если Германия будет побеждена, кто знает, что сделают с ней победители? Быть может, вынося на суд ее мерзкие преступления, они будут достаточно разумны, а может, отплатят такой же бессмысленной жестокостью. Но в одном я уверен так же твердо, как в том, что я сижу здесь, полуслепой, больной и невежественный: я знаю, что это злое время пройдет. Я знаю, что солнце почернело на небе, что земля усеяна костями убитых, как щебнем, но я твердо верю, что жестокость эта исчезнет без следа. И знаю, что Человек пробьется вперед, к золотому будущему. Даже в слепоте своей я вижу это. И если бы в Германии был один только благородный человек и имя его было бы «Веглер», я все же сказал бы: в деянии его я вижу высокую нравственность будущего ! И я верю в это. Если вы не поможете этому человеку, Цодер, если вы не сделаете все возможное, чтобы спасти от того, что ему грозит, тогда во имя высокой морали я, как пастор, выслежу вас и убью. Клянусь вам!
Читать дальше