* * *
Гороховский уже не видел, не мог видеть, как третья бронемашина, развернувшись и будто гоня перед собой автоматчиков, газанула обратно. Упёршись раздвоенным, с ямочкой, подбородком в простреленную грудь, из которой ушло последнее дыхание, с раскрытыми влажными глазами, в которых словно стояли слёзы, издали он походил на живого, устало привалившегося к окопной стенке человека. А вблизи — расползшееся по гимнастёрке тёмно-красное пятно, струйка крови изо рта, он был мертв, а струйка медленно, нехотя стекала по подбородку, капала на подтянутые к груди колени. Он был самым молодым среди личного состава, и Трофименко, болезненно поморщившись, приказал Гречаникову:
— Старшина! Позволит обстановка — захоронить Гороховского по-человечески.
Такой чести удостаивался не каждый: в иночасье было не до захоронения. Да и сейчас было не до захоронения, но Гороховский был мальчишка — как будто младший брат или даже сын, если иметь в виду не возраст. Одним словом, первогодок. Боец первого года службы. Второго и третьего у него не будет.
Старшина Гречанинов понял это или показалось, что понял, ответил без бравости, как бы сочувствуя:
— Захороним, товарищ лейтенант! Всё будет по-людски. Не сомневайтесь…
И всё было по-человечески, по-людски: тело завернули в плащ-палатку, положили в недорытый окоп, подогнули ноги, не помещавшиеся в окопчике, закидали комьями, поверх бугорка пристроили Фелькину фуражку — зелёное пятно на жёлтом свежепотревоженном суглинке. И ушел в землю парень, который должен был долго-долго ходить по этой земле…
Сын полуполяка-полубелоруса, унаследовавший от него разом и польскую громкость, и белорусскую тихость (от матери только тихость), Феликс вырос, собственно, без отца. Волею судьбы воевавший в коннице Будённого и дошедший почти до Варшавы, отец после гражданской и интервенции остался в кадрах, выучился на краскома — красного командира, но потом был переведён в другую систему и уже не по воле судьбы, а по собственной отбыл за кордон, напросившись на разведработу, о которой, конечно, ни мать, ни Феликс и не догадывались. Для них он — в длительной командировке. Из неё он так и не вернулся: выданный провокатором, уже арестованный, сумел принять яд, чтобы на следствии, под пытками, не проронить чего-либо. И об этом не знали ни мать, ни Феликс. Мать подозревала, что он бросил их, завёл другую женщину, а Феликс постепенно привыкал к безотцовщине, хотя иногда по ночам просыпался в предчувствии: отец вот-вот постучит в дверь.
Никто не постучался и до того осеннего дня, когда Феликса призвали в пограничные войска; мандатную комиссию прошёл без сучка, без задоринки, хотя поволновался из-за отца: где он и что он — неизвестно. Зато врачи чуть не забраковали: слаб-де физически. Пришлось торкнуться к военкому, вспомнив о своей родовой громкости и забыв свою родовую тихость. Да и то сказать: пусть не богатырь, пусть жидковат, но ведь нормы ГТО сдал, но ведь «ворошиловский стрелок»! А мускулы накачает в армии, на границе. Поусмехавшись, военком все-таки дал добро: парень увиделся ему смелым, такому и место на заставе.
За месяцы службы Феликс мускулов особых не накачал, но вот смелость проявил не однажды. И не в пограничных нарядах, а в увольнении. Раз старика со старухой, одиноких, полуслепых и полуглухих, вынес из горящей хаты, в другой раз девчушка тонула в пруду — бросился, вытащил, хотя сам нахлебался вдоволь и бронхит схватил, а в третий — обезоружил, скрутил в сельском клубе пьяного хулигана, размахивавшего финкой. Ну а в нарядах вел себя не боязливо, службу нес нормально, то есть бдительно и уверенно, как и подобает пограничнику-дзержинцу. Тем более с таким именем — Феликс.
В свободное время Гороховский писал письма маме и стихи — для себя, в заветную клетчатую тетрадку. Стихи были странные, самому непонятные — о том, чего еще не мог испытать, а казалось, испытал. Близость с женщиной. Измена друга. Полет к звездам. Его дети, ставшие взрослыми. Старость и надвигающаяся смерть. Он понимал, что стихи странные, для комсомольца не очень подходящие, и что за это по головке не погладят. Потому и уберегал тетрадочку от посторонних глаз, хотя товарищи по заставе, открытые и прямые, и не любопытничали. А вот письма маме писал понятные и ей и себе — о том, как любит её, как скучает, как ждет не дождётся окончания службы, как хочет всегда быть с ней, потому что нет на земле человека дороже, чем она. Он часто видел маму во сне и изредка наяву — мерещилось, что выходит из-за дерева либо склоняется над его красноармейской койкой, поправляет одеяло, либо машет вслед, когда он ступает на дозорную тропу. И это были счастливые мгновения: как будто и вправду повидался с ней.
Читать дальше
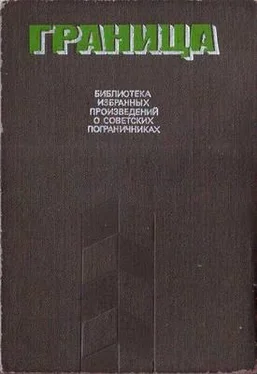



![Олег Верещагин - Красный вереск [За други своя!]](/books/283226/oleg-verechagin-krasnyj-veresk-za-drugi-svoya-thumb.webp)





