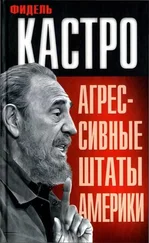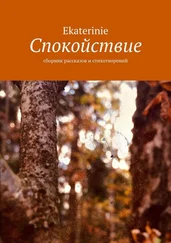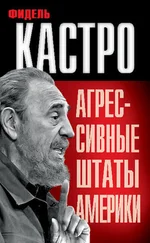Отчего Фидель на янки
нагоняет смертный страх?
Почему американцы
с ним, с Фиделем, не в ладах?
Да потому, что в сердце
Фиделя — ясный пламень,
как молния, способный
испепелить на месте.
Его праща надежна,
и в ней — надежный камень,
не в бровь, а в глаз разящий
с времен Сьерра—Маэстры.
В бою и на трибуне
во имя гуманизма
он не дает в обиду
народ порабощенный.
В его устах и слово —
как будто меч, вонзенный
в зловещую утробу,
в нутро капитализма.
Отчего Фидель на янки
нагоняет смертный страх?
Почему американцы
с ним, с Фиделем, не в ладах?
Да потому, что сердцем,
и нежным, и отважным,
болеет и радеет
о сирых он и хворых,
и все—таки при этом
на страх врагам продажным
в надежном арсенале
сухим он держит порох.
Чтоб свет зари пролился
на нищих и на темных,
он сквозь огонь и бурю
готов идти на приступ;
в одной руке он держит
цветок для угнетенных,
в другой — клинок точеный
для империалистов.
Отчего Фидель на янки
нагоняет смертный страх?
Почему американцы
с ним, с Фиделем, не в ладах?
Ему иной не нужно
ни славы, ни награды,
чем освещать народам
священный путь к свободе.
Он доблестен на зависть
героям «Илиады»,
в нем больше благородства,
чем в славном Дон Кихоте.
Фидель берет на плечи,
как миллионножилый,
нелегкую заботу
о всех, кто наг и сир.
Вот почему не может
ни долларом, ни силой
ни сладить, ни поладить
С Фиделем старый мир.
Если я вдруг погибну,
ты, товарищ, держись.
Над тобой пусть сияет
поднебесная высь.
Если я вдруг погибну,
сбереги мою мать,
сохрани наши розы
и не дай им увять.
Если я вдруг погибну
в беспощадном бою,
то тебе завещаю
я винтовку свою.
Густой туман
повис вчера вечером
над окопами,
а сегодня влагой своею
он касается наших рук.
Дождливая ночь
застлала своей пеленой
уставшие от бессонницы глаза,
пристально смотрящие вдаль.
(Сегодня ночь и мы не увидим
солнца.)
Мы поползем по траве
или по зыбкой грязи
до самого ручья
или поднимемся по холму,
притаившемуся в глубине гор.
Передай любимой,
что помню ее,
когда чищу винтовку
или слушаю грустную песню
товарища по оружию.
Скажи ей, что деревья здесь
разговаривают чистыми, нежными
голосами
и их звуки проносятся над нашими
стальными касками,
пробуждая от сна
спящий рассвет.
Скажи ей, что помню о ней я все время.
Попроси поэта сложить нежные строчки,
чтоб звучали они сильнее набата,
пока над окопами не опустится ночь.
Передай всем жителям
нашего селенья,
передай почтальону,
спешащему с утренней почтой,
передай старику, что, свесив седую голову,
смотрит с балкона,
передай аптекарю,
передай сапожнику,
передай матери,
ожидающей сына,
что через наши окопы
враг не пройдет!
Нет у него могилы, и только ветер
протяжно плачет над травой,
окрасившейся его кровью.
Только облако и птица
запомнили место,
где он споткнулся о пулю.
Только ручей
омыл его раны.
Но отвоеванный им воздух
достался в наследство
детям его и собратьям.
И, вдыхая этот воздух,
мы слышим его голос
и видим его сны.
Дыша этим воздухом,
люди не могут не дарить
новой жизни
всю свою кровь
и жар своего сердца.
Это ли не памятник ему?
Феликс Пичардо Мойя
Романс об Игнасио Аграмонте
Что ж спеть вам, сеньоры? Впрочем,
не слышали, может статься,
романс вы об Аграмонте,
отважном вожде повстанцев?
Мечтал Аграмонте с детства
о подвиге и о славе.
Конечно, мечтать об этом
любой из юношей вправе.
Однако мечты — мечтами,
а дело всегда есть дело.
Пригож Аграмонте ликом
и крепок душой и телом,
и вскоре он всем докажет,
каким он родился смелым.
Его отважное сердце
воспламенено любовью.
Он белой невесте пишет
послание красной кровью.
Но в сердце его пылает
пожар и другого рода:
не может стерпеть Игнасьо
позор своего народа —
позорные цепи рабства,
испанского ига цепи…
Душа его изнывает
на родине, словно в склепе.
Друзья же не понимают
(хотя и постигнут вскоре),
какое сутулит плечи
ему, Аграмонте, горе.
Да разве же он забудет
свой символ любви и веры —
платок, омоченный кровью
казненного Агуэро?
Ребенком он был на казни,
на этой кровавой жатве.
Да разве же он изменит
тогда еще данной клятве?
Читать дальше