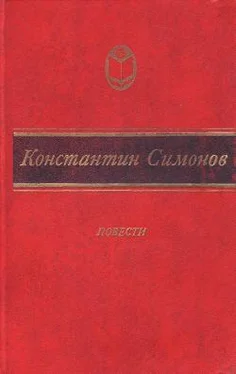Полынин в темноте усмехнулся: уж больно все это вышло по-довоенному – «двойка по геометрии».
– Все равно сходи. В райкоме скажут, чего тебе делать.
– Я спрашивал тут одного в очереди, – сказал мальчик, – говорит, у них на производстве с четырнадцати лет берут, с общежитием, считается – в ученики, но они там сразу на оборону работают, прямо как рабочие.
– Ну что ж, – одобрительно сказал Полынин. – Я тоже в четырнадцать лет на производство пошел. Только у нас в то время весь рабочий день четыре часа был. Не знаю, как теперь, в войну. Навряд ли.
Они спустились до первого этажа и остановились.
Полынин замялся. Хотел было сказать мальчишке то, что, наверное, полагалось сказать: все же посоветуйся обо всем этом еще и со своими родственниками. Но язык почему-то не повернулся, и вместо того, чтобы объяснять, как маленькому, что надо слушаться старших, сказал от души, как взрослому:
– Только если работать пойдешь – потом уже не качайся! Кто бы ни отговаривал. Раз пошел, значит, все! – И протянул руку: – На, держи!
Уже выйдя в тамбур, Полынин задержался и, прежде чем открыть дверь на улицу, прислушался к тому, что мальчишка поднимается обратно по лестнице.
Сидя там, наверху, у этих людей, Полынин не только не противился тому впечатлению, которое они хотели создать о себе, но, напротив, заранее готов был ему поддаться, потому что заранее хотел, чтобы люди, которым он привез письмо от Галины Петровны, были именно такими добрыми и симпатичными, какими они выглядели.
Но в том, как мальчишка вдруг выскочил за ним, и в том, как он хотел уйти от этих своих родственников, хотя и не говорил о них ничего плохого, было что-то неясно-тревожное.
Именно поэтому Полынин остановился и стал слушать: вернется ли сейчас мальчишка обратно в эту квартиру?
Стоял и слушал до тех пор, пока там, наверху, не хлопнула дверь. «Вернулся!»
Но чувство неясной тревоги все равно не прошло. Он вдруг подумал о Галине Петровне с каким-то незнакомым ему раньше чувством боязни за нее. Как будто ее надо было от чего-то защитить. А от чего, неизвестно…
Выйдя на улицу, Полынин открыл дверцу «эмки» и через плечо задремавшего водителя нажал на гудок.
Водитель очумело схватился за руль и только потом повернул голову к Полынину.
– В управление?
– Нет, давай сперва на Центральный телеграф, – сказал Полынин, впервые за последний час вспомнив о самом себе и о том, что он со вчерашнего дня – Герой Советского Союза. – Надо мамаше телеграмму отбить!
Днем тридцатого декабря, задержавшись на Карельском фронте дольше, чем думала, Галина Петровна вышла на перрон Ярославского вокзала. Остальная бригада, пробыв четыре месяца на Карельском фронте, добралась до Москвы еще десять дней назад, а Галина Петровна, захворав в конце поездки в Беломорске воспалением легких, пролежала там две недели в госпитале. Товарищи по бригаде решили, что кого-то надо оставить в больнице: Маша Макарова самоотверженно вызвалась на это, и теперь они обе еле поспели в Москву к Новому году.
Поездка была долгая: сначала двое суток по новой, только недавно проложенной одноколейной ветке, лесами, огибавшими все Белое море, потом после пересадки в ста километрах южнее Архангельска, еще четверо суток – через Вологду до Москвы. Политуправление фронта снабдило обеих женщин на дорогу хорошим пайком, но они по своей доброте и безалаберности, с помощью соседей, истратили этот паек раньше, чем доехали до Москвы, и последние двое суток им пришлось поститься.
Впрочем, они стыдились не только говорить, но и думать об этом после зрелища, которое увидели за двое суток до Москвы на вологодском вокзале, где был промежуточный пункт для эвакуированных из Ленинграда женщин и детей…
Горькая дорога военного времени – забитые людьми станции, обледенелые будки с очередями за кипятком, обледенелые платформы, инвалиды, раненые, плачущие, по много суток ждущие поездов женщины с детьми – все это вместе взятое выглядело такой бедой, которую неизвестно когда расхлебаем.
Единственное, что скрашивало дорогу и про что, стараясь не думать ни о чем другом, говорили Галина Петровна с Машей Макаровой и другие люди вокруг них, – были хорошие военные новости. Начиная с двенадцатого декабря, после первого сообщения о нашем начавшемся под Москвой наступлении, в сводках всякий день появлялись названия отбитых у фашистов городов и сел. После того как сначала появились сообщения об освобождении Тихвина и Ростова, а потом о победе под Москвой, души людей охватило совсем другое, новое настроение. Война уже отучила их от легковерия. Тех безумных надежд, которые вспыхивали в первые дни войны от каждого слуха о каком-нибудь нашем успехе, уже не рождалось. Что война будет короткой, уже никто не думал, хотя почти никто еще не представлял себе, какой она будет долгой. Но наши под Москвой гнали и гнали на запад фашистов; и в душах двух ехавших в Москву женщин это занимало такое большое место, какого в прежние годы их жизни, пожалуй, никогда и ничто еще не занимало. Они были полны этим и чувствовали себя почти счастливыми, хотя в их собственной жизни как раз за последнее время ничего хорошего не было и, кажется, не предвиделось.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу