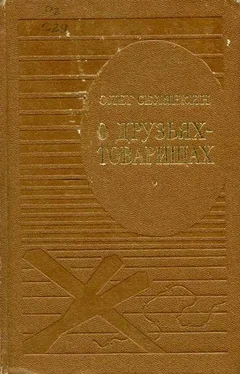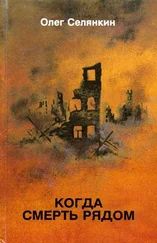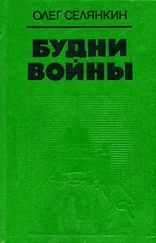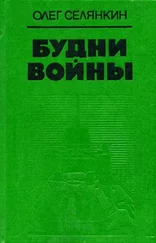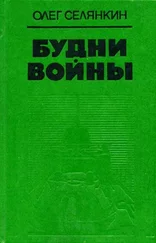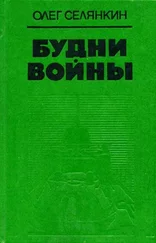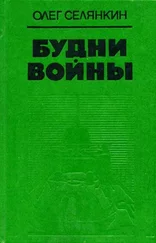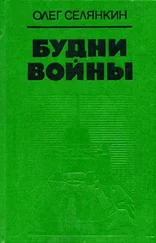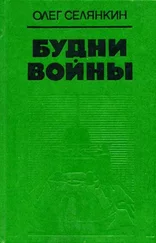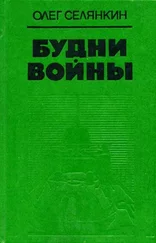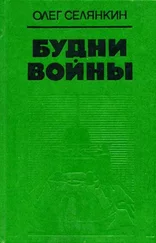Мне кажется, что мое здоровье круто пошло на поправку не только благодаря лечению. Родная Пермь и мама, навещавшая меня почти каждый день, уверен, во многом помогли мне.
Мама… Ночью меня привезли в Пермь, а утром в дверях палаты я увидел ее, маму. Анатолий Константинович Шипов — ведущий хирург госпиталя — что-то сурово говорил ей. Она, как маленькая девочка, только послушно кивала и смотрела себе под ноги.
Моя койка тогда стояла еще в углу напротив двери, и поэтому я прекрасно видел и маму, и Анатолия Константиновича.
Наконец он показал маме мою койку. И вот мама вошла в палату, стараясь казаться бодрой. Улыбнулась моим товарищам, поздоровалась с ними и засеменила к моей койке. Подошла, села на ее краешек и спиной ко мне. Я очень боялся, что она заговорит со мной, боялся, что разревусь, услышав ее голос.
Она не сказала ни слова. Только как-то непостижимо ловко пробежала своими пальцами по моему телу (слава богу, руки и ноги у сына целы!) и сказала:
— Я сейчас… Я еще приду, — и вышла из палаты.
Не знал я тогда, что в кармане белого халата мама комкала похоронку на меня, которую почтальон вручил ей в тот момент, когда она вышла из дому, чтобы бежать ко мне…
И еще одна большая радость, которая ждала меня здесь, — в нашем госпитале на излечении оказался пулеметчик Федя Новиков, а в соседнем — стоматологическом — и Сережа Орлов. Тот самый, который телом своим прикрыл меня.
Федю Новикова мы считали уже мертвым, так что радость для меня была двойная, когда он вдруг, поддерживаемый медицинской сестрой, приковылял в мою палату и сказал, заикаясь:
— Вот они, подводнички, встретились…
Федю близким разрывом бомбы вышвырнуло из пулеметного гнезда, перевернуло в воздухе и так шмякнуло о землю, что у него кровь из ушей пошла. Когда мы подбежали к нему, он только вздрагивал изредка.
Постояли мы возле него, постояли и решили, что не жилец он больше на белом свете. Но в госпиталь отправили. И вот теперь Федя Новиков — заикающийся, но живой! — сидит рядом, держится за мою руку.
А от Орлова я узнал, что дня через три после того, как ранило меня, в батальоне осталось только четырнадцать человек. Тогда они и получили приказ отойти в наш глубокий тыл; будто бы — подводников возвращали на лодки.
И они ушли из окопов. И присели покурить где-то во втором эшелоне. Сюда и залетела вражеская мина.
Орлову осколок повредил нижнюю челюсть, а остальным досталось и того крепче.
В те дни на имя мамы пришло вот это письмо:
«Добрый день, товарищ Селянкина!
Простите, что мы не знаем вашего имени-отчества: все недосуг и некогда спрашивать было. Пишут вам боевые товарищи вашего сына, а нашего командира, матросы Копысов и Кашин. Вместе с ним мы воевали под Ленинградом, где он был ранен. Мы и сдали его в госпиталь. Ранен он не так чтобы очень, но ничего. Теперь мы не знаем, где он. Ежели вы знаете его адрес, то напишите ему от нас привет, и пусть скорее поправляется…»
Ранен не так чтобы очень, но ничего…
Только мои матросы могли написать так «дипломатично»!
Стал я выздоравливать, исчезла угроза смерти — появилось и окрепло одно неодолимое желание: только бы комиссия признала годным к продолжению военной службы, только бы снова попасть на фронт.
Где-то сразу после Октябрьского праздника, когда все мы, затаив дыхание, выслушали обе речи И. В. Сталина, каждому слову которого верили безоговорочно, меня вызвали на медицинскую комиссию. Волновался, пожалуй, больше, чем перед самым страшным государственным экзаменом. Так боялся, что забракуют, ноги в коленях ходуном ходили. Однако все обошлось — лучше не надо: дали месяц отпуска, после чего обязали явиться в военкомат, чтобы получить проездные документы для следования в Ленинград, к месту службы.
О чем еще можно было мечтать?
И вот я иду по улицам Перми. Чуть больше года минуло с момента моего последнего отпуска, но как многолюдны они стали! А зашел домой к друзьям, никого не застал: одни на фронте, другие днюют и ночуют на заводах.
Лишним я почувствовал себя в городе. Недели две еще пересиливал себя и сидел около мамы, а потом закинул за спину тощий вещевой мешок и зашагал в военкомат. Там нисколько не удивились моему досрочному появлению и после недолгих споров выписали все проездные документы до Ленинграда, чему я был несказанно рад. Потому рад, что для меня Ленинград был городом, который очень многое мне дал; я считал себя просто обязанным участвовать в его обороне.
Читать дальше