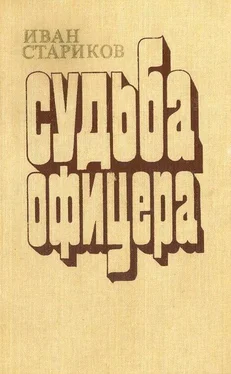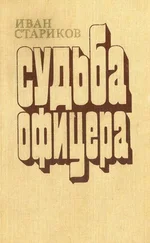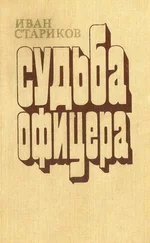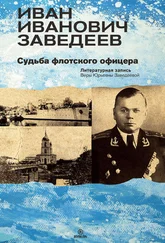Оленич сидел возле столика под абрикосом и чистил пуговицы на кителе. Вдруг зарычал Рекс: появился нежданный гость — Борис Латов. Он был чисто одет, матросская форма хорошо отутюжена, ботинки начищены, лицо — сильное, мускулистое и скуластое — чисто выбрито, глаза не такие дерзкие, как всегда, хотя настороженные и слегка бегающие. «Что это с ним? — подумал Оленич, лишь мельком взглянув на гостя. — Ага, голубчик! Не потерянный ты человек, пришел с повинной!» Вчера опять напился и дебоширил возле колхозного ларька. Причем так бесновался, что десяток мужиков ничего не могли с ним сделать. Они наседали на него роем, но он встряхивал могучими плечами, и они отлетали от него. И вдруг к нему подошла его дочка, Оксана, пятнадцатилетняя девочка, и попросила:
— Папа, пойдем домой. Мы с мамой ждем тебя, ждем…
И он сразу стих и пошел следом за дочкой.
— Капитан, явился я к тебе. Знаешь, зачем?
Оленич сделал вид, что ему это совсем не интересно, и продолжал суконкой начищать пуговицы на кителе, посматривая на них, подставляя лучам солнца, и казалось, сейчас для него не было дела важнее, чем блеск пуговиц. Однако сказал равнодушно:
— Коли объявился, скажешь сам, для чего.
— Хочу, чтобы ты и меня подраил, как пуговицы.
— Здесь тебе не быткомбинат и не химчистка. Поищи бюро добрых услуг в другом месте.
— Выслушай, я тебе серьезно. Напился я вчера…
— Что, рубль дать на похмелку?
— Не кусай. Помоги найти точку опоры.
— А где я тебе возьму эту точку? Она у каждого своя, браток. Если ты серьезно за этим пришел, то ищи в себе. Ты понял? Никто тебе взаймы точку опоры в жизни не даст: она каждому нужна, если кто, конечно, хочет жить по-человечески, а не по-скотски. Понял, братишка?
— Понял. Вот эти твои слова уже точка.
— Ну, так и бери… Только скажу я тебе: для настоящей жизни слов мало. Надо крепко стоять на земле. Крепко, чтобы никто не смог пошатнуть твою душу, твою совесть.
— Дай хоть один костыль.
— Не дам. Но есть у тебя один шанс. Он пока что твоя единственная точка опоры.
— Говори, что надо сделать?
— Ты сейчас пойдешь к Гавриле Федосовичу Чибису и попросишь его прийти сюда. И вы придете вместе, чтобы в селе видели Латова рядом с Гаврилой Чибисом. Понял?
— Это невозможно, капитан! У меня есть еще самолюбие…
— О, да! Этого добра у тебя, как навоза возле колхозного коровника. Вот только человеческого достоинства у тебя нет. А без этого — нет и не будет у тебя точки опоры.
— Мы с ним враги.
— Ты просто издеваешься над старым и больным человеком. Какой он тебе враг? Может, он получше тебя, Борис.
— Ненавижу тех, кто прислуживал фашистам.
— Кто тебе сказал, что он — прислужник фашистов?
— Он был в Германии…
— Как смеешь так о нем говорить? А знаешь ли ты, что настоящий фашистский прислужник расстрелял вот на этом месте Оксану? И на память об этом прихватил гребешок драгоценный. И ходит вон там, за огородами, и ухмыляется, как ты истязаешь ее брата. Так кто же ты, а, Борис Латов?
Борис подскочил со стула, просто взвился, как тигр в прыжке метнулся к Оленичу, но остановился, и его озлобленный голос прохрипел:
— Ты меня равняешь с гитлеровским палачом?! — Борис воздел кверху культи и сдавил ими голову. — Еще совсем недавно за такие слова ты дорого бы заплатил. Но теперь…
Оленич спокойно докончил:
— Теперь ты сам будешь платить.
Не знал Андрей, насколько пророческими окажутся эти его слова, протрезвившие Бориса. Матрос, склонив кудрявую голову к груди, молчал, и только вены на его открытом лбу напряглись: он думал, может быть, впер, вые над всем, что случилось в его жизни.
Поднял голову, посмотрел на капитана:
— Ты хоть понимаешь, чего требуешь от меня?
— Да. И ты это сделаешь.
— А если откажусь?
— Тогда я скажу тебе, в каком родстве ты состоишь с палачом Оксаны Чибис.
Латов заскрипел зубами. Его матросская неукротимость никак не могла угомониться, никак не хотела подчиниться необходимости выйти из привычного туманного состояния, подозрительности и озлобленности, с трудом постигала свою собственную несправедливость. Приложив руки к груди, он пошел по дорожке к воротам, остановился за калиткой, оглянулся на Оленича и решительно зашагал по улице.
Не один раз Оленич думал над судьбой Латова: в этом человеке сконцентрировалось так много того, что выпало на долю почти всех инвалидов Отечественной. Но еще хорошо, что в трудной жизни он удержался среди людей. И надо только благодарить всенародное великодушие и терпимость. И очень хотелось Андрею, чтобы просветлела душа и голова этого моряка, заплатившего высокую цену за победу над врагом. За минуты ожидания многое передумал Андрей — и о себе, и о Чибисах, и о Латове, и о Евдокии Проновой. У каждого человека своя трудная судьба, каждый пережил или переживает горькие дни, и все это было понятно Оленичу.
Читать дальше