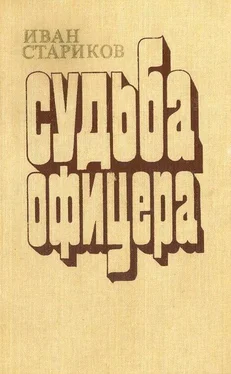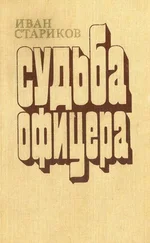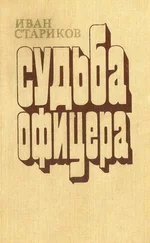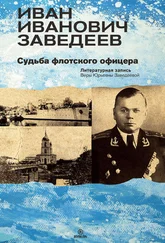— Опять Латов куролесит. Напал снова на дядьку Гаврилу. Это Гаврила Федосович, сын хозяина вашего дома.
— Чего он разошелся, Латов?
— Как напьется, так и скандалит. А уж если встретит кого, кто при немцах оставался дома да еще и работал, или увидит побывавшего в плену — тогда становится лютым, кидается в драку. Вот дядьке Гавриле проходу не дает, хоть любил его сестру Оксану.
— Подробнее можешь рассказать о нем?
Они отошли от памятника, сели на скамейку в тени огромных ясеней, и Роман выложил Оленичу все, что знал и слышал о Борисе Латове — о его любви к Оксане, о его службе на флоте, о том, что в бою за Керчь нес знамя и ему оторвало кисти рук, о том, что родителей у Латова не было — вся семья и родственники умерли от голода в тридцать третьем, он один выжил, потому что родился сильным. Вернувшись калекой, долго жил один, пока не пристал к вдове Насте на квартиру, да так и остался. У Настасьи было двое детишек, теперь уже повырастали и разъехались. Но у них есть девочка лет пятнадцати — Оксана, названная в честь Оксаны Чибис, расстрелянной карателями в первое утро сорок третьего года. И до сих пор он любит ту убитую девушку, и Настасья не ревнует его, прощает, понимает его горе и его душевное одиночество. Но человек он очень принципиальный и верит, что тот, кто был под немцем или в плену, виноват в его горькой судьбе.
Пока Роман рассказывал, Латов, стоя на пути Гаврилы Чибиса, не давал ему возможности пройти и выкрикивал ругательства, оскорблял как мог, словно получал удовольствие от того, что вот так безнаказанно может унизить, обидеть человека. Оленич хоть и не мог спокойно сидеть и наблюдать со стороны такое, но понимал, что, вмешайся, сделает еще хуже — доведет дело до драки.
— Чего буйствуешь, Борис? — спокойно увещевал разъяренного матроса Чибис. — Мало выпил? Могу поставить стаканчик. Ларек работает…
— Захлебнись ты своим вином! — Латов выпучил глаза и грозно надвигался на тщедушного Гаврилу. — Чтобы я выпил из твоих рук?!
— Глупец ты, Борис! Не можешь уже по-человечески разговаривать.
— Я — глупец? А ты, значит, мудрец? Да? Я глупец, что по скалам лез под снаряды гитлеровцев, а ты, умник, в это время вылеживался в немецких перинах!
— А что, Гаврила Федосович действительно был в плену? В Германии?
— Да, был. Но об этой истории никто ничего не знает. Известно, что был ранен, угнан в Германию на работу, проверен, ему установлена инвалидность второй группы.
— Послушай, а давай выручим Гаврилу Федосовича?
— Как?
— Садись на мотоцикл, подъезжай и забери его, скажи, что председатель вызывает.
Роман кинулся к мотоциклу, мгновенно завел его, подкатил почти вплотную к Гавриле Федосовичу:
— Дядя Гаврила! Вас председатель кличет. Садитесь, подвезу.
Чибис тоже, видно, сразу понял, что к чему, сел сзади Романа. Мотоцикл рванулся с места, обдав Латова дымом, и помчался по улице, но не в сторону конторы колхоза, а к дому Чибиса. Латов понял, что его ловко провели, воздел кверху культи рук, грозно помахал ими, а потом, опустив их, громко захохотал.
Феноген Крыж несколько раз собирался поехать в Тепломорск, пробраться на Лихие острова и забрать спрятанные под камнями награбленные сокровища. Но не имея никаких сведений ни о Дремлюге, ни об Олениче, он всякий раз, объятый страхом перед возможностью разоблачения и расплаты, откладывал поездку до более благоприятного момента. Ждал, что вот-вот все сложится к лучшему и тогда он совершит молниеносный налет. И в то же время ясно осознавал: надо самому создать благоприятные обстоятельства. Главное, убрать Дремлюгу с его фотоматериалами, которые грознее всех обвинений на свете. Все свидетели могут лгать, а фотодокумент — нет.
Лучшим помощником в этом деле мог бы стать Эдуард. Ему ничего не стоит зайти к бывшему фотографу и поинтересоваться, нет ли чего о стахановцах, об ударниках довоенного времени. Журнал мог интересоваться такими документами, ну и так далее. Но Эдик после случая в городском парке с Виктором Калинкой здорово перепутался и как-то отошел от отца, остыл его интерес к богатству. Долго ломал голову старый Крыж, но никак не мог понять, что произошло с парнем? Может, он оказался трусом еще более жалким, чем сам отец?
Чего только ни думал старик о своем непослушном, упрямом сынке! Как ни проклинал его, а в глубине души надеялся, что Эдик еще придет и поклонится и станет помощью и утешением. Но Крыж, преступник всем своим существом, преступник до такой степени, что самые страшные злодеяния не считал преступлением ни в малейшей степени, был убежден, что каждый сильный человек не должен щадить слабого — закон природы. Его, этот закон, никто не отменял и никогда не сможет отменить — на нем держится жизнь. Иначе она загниет и погибнет. Именно поэтому он думал, что Эдик мог испугаться чего-то другого, а не пущенной мальчишке крови. На самом же деле Эдуард в момент нападения Богдана на Калинку подумал, что удар ножа назначался в его, Эдикову, спину, что отец решил избавиться от лишнего свидетеля, которому невольно признался, кто и что он такое — старый мрачный Крыж! Отец не знал истинной причины испуга сына и поэтому выжидал, надеясь, что тот опомнится, на досуге обдумает все и согласится помочь.
Читать дальше