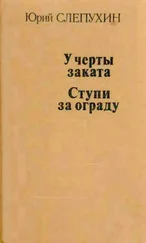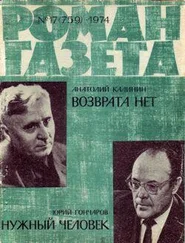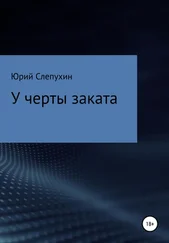Потом было что-то еще, что-то еще… Сон затягивал Антона, как тянет омут в свою черную глубину. Чернота сжималась, густела, наваливалась тяжестью, которая могла раздавить, Антон мучился, хотел высвободиться, мотал головой, рвался телом из стороны в сторону, понимая: чтобы освободиться – надо проснуться. И наконец проснулся – с сильными сердцебиением, словно выплыл из глубины на поверхность, глотая воздух жадно открытым ртом.
За стенами хатенки шуршал мелкий несильный дождичек, булькали капли, подавшие с соломенной крыши в глиняную миску у порога, поставленную как поилка для кур. Кроме шепота дождя, бульканья капель за стенами хатенки не слышалось никаких других звуков. Только в отдалении что-то грузно, тяжело, со вздохами и уханьем как бы ворочалось и никак не могло успокоиться. Будто гигантский зверь, их тех доисторических динозавров, что были на картинках в школьных учебниках зоологии, пытался выбраться из засасывающей его трясины, напрягая во всю мочь свои гороподобные мускулы, уже почти выбирался, тяжко отдуваясь, сопя, с глухим рыком из разверстой пасти, не меньшей, чем ковш экскаватора, топал ногами, стряхивая с себя грязь и упрочиваясь на земле, и снова грузно падал всей своей многотонной тушей в трясину и опять начинал ворочаться и пыхтеть.
Но откуда взяться в двадцатом веке, в середине России, на Брянщине доисторическим динозаврам? Согнав остатки сна, Антон догадался, сообразил – нет, это за горизонтом, приглушенная расстоянием, искажающим звуки, тяжко дышит, бормочет гулом канонады приближающаяся война, не дающая себе покоя и отдыха даже ночью.
И Антона пронзило чувство трагичности того, что произошло и происходит. Что принесло нападение Германии, вмиг сломавшее нормальный ход жизни, непредсказуемо повернувшее каждую отдельную человеческую судьбу. Это чувство явилось к Антону сразу же, еще в те минуты, когда по радио звучала запинающаяся речь Молотова, и непрерывно преследовало его все время потом, во все последующие дни. Но в городе, в хаосе, сумбуре, движении больших и малых событий, плотно наполнявших каждый день, каждый час, в потоке ежедневных радиосводок, каждая из которых, сообщая об отступлении наших войск, несла в себе очередное тяжкое потрясение, в каждом заводском цехе, в звуках музыки, маршей, почти непрерывно гремевших из репродукторов, среди всевозможных сбивчивых, торопливых разговоров, пересудов разносящихся слухов, как самых мрачных, так и одобряющих, радужных, проводов на фронт со слезами и рыданиям, с напутственными криками из тротуарных толп: «Ребята, дайте им там хорошенько, покажите им, мать их… где раки зимуют!», среди волнений по поводу исчезающих с прилавков продуктов, по поводу нового порядка снабжения по карточкам и талонам, беготни Антона в политехнический институт, куда он отнес для поступления свой всего лишь за день до начала войны полученный школьный аттестат, и не знал, не мог выяснить, что теперь, с войной и массовой мобилизацией студентов, станет с институтом, будет ли он нормально функционировать или последует что-то другое, и многого, многого еще, что наполняло дни, чувства и сознание Антона, – трагизм происходящего, масштабы обрушившейся беды виделись и ощущались несколько заслоненно, размыто. А сейчас, в темноте ночи, в самый глубинный ее час, в совсем чужом и незнакомом месте, куда его бросило не по своей воле, а волею всем командующих теперь обстоятельств, в ветхой крестьянской халупе, беззащитно вздрагивающей от звуков дальней канонады, не прерывающей и ночью своего безумного, безжалостного труда приближающейся войны, как бы наедине со всей той гигантской человеческой и машинной массой, что хлынула с запада и, сминая все на своем пути, движется, как огненная лавина вулканных недр, чтобы сделать чужую ей русскую землю своей и уже считает своим все, что находится под сапогами серо-зеленых, в рогатых касках, солдат, под гусеницами рычащих моторами танков и бронемашин, – ощущение трагизма, беды, небывалого общего и личного для каждого несчастья, ничем не притушенное, ничем не смягченное, возникло в Антоне с такой остротой, с такой режущей болью, что он даже едва сдержал готовый вырваться из него стон. Он вздрогнул и дернулся на земляном полу хибарки, на стариковском рваном кожушке, точно его ударило электрическим током или ужалила змея. Потребовалось до скрипа сжать зубы, напрячь все мускулы тела, чтобы не разбудить спавшего рядом Гудкова.
Старика на печи Антон, однако, все же обеспокоил. Старик завозился, закряхтел, стал спускаться, привычно находя в темноте опору для рук и ног. Скрипнув дверью, вышел наружу – помочиться. Справив нужду, он не вернулся, остался на улице; должно быть, и его привлекли перекаты военного грома за горизонтом, полыхающий там свет.
Читать дальше