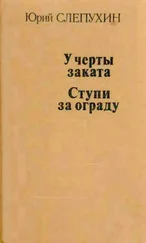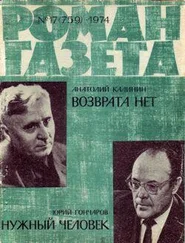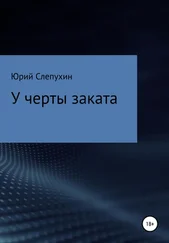А вслед за этим бдительно Генку заинтересовали дворовые бабульки: сидят на лавочках до поздних часов и все говорят, говорят…
– Очереди ругают, – осуждающе сказал Генка. – За всем, дескать, что ни возьми, очереди – и за хлебом, и за крупой, и за маслом растительным… А уж за ситчиком или галошами с ночи надо становиться… Надо бы послушать их разговорчики повнимательней. Может, не только очереди, но и вообще все ругают, всю советскую власть? Я к ним кого-нибудь из наших девчонок подсажу. Будто бы что-то вяжут, а сами пусть хорошенько послушают…
– Так это же их бабушки родные, – сказал Генке Антон. – За своими родными бабушками им шпионить? А очереди действительно за всем. Каждый день они в них по много часов стоят. Как же им про это не говорить? Вот и говорят. Ноги у всех больные, в этих самых очередях намученные.
– Больше, что ли, не о чем им говорить В нашей стране не только очереди, в нашей стране и Турксиб, и Днепрогэс построили, и на Урале домны пустили. Зачем только одно черное видеть?
– Бабушки же Турксиб не строили, что их прямо касается – о том и речь. А ты хочешь, чтобы девчонки из своих бабушек вредителей сделали?
– А Павлик Морозов как? Он всем нам пример. Таких же лет, как все тут во дворе. Свои родичи ему – что, разве не дороги были? Но политическая сознательность выше всяких родственных чувств. Разглядел среди своих родичей врагов – и не стал их жалеть. Сообщил куда положено. И правильно сделал. Потому Павлику теперь такой и почет.
Возразить Генке Антон не смог – не нашлось слов. Генка вроде был кругом прав, но соглашаться с ним не хотелось.
Схваченных для допроса мальчишек Антон не бил, в сарай под замок или в подвал для «развязывания языка» не затаскивал, а когда Генка стал посылать разведчиков шпионить за дворовыми бабками, за подравшимися соседями, за Гришей Толстых – не продает ли он «налево» казенные телефонные шнуры, розетки, а то и целые телефонные аппараты, ведь все это острый дефицит, на нем можно огребать большущие деньги, – Антону стало совсем не по себе и не захотелось пребывать в разведчиках дальше. Что-то в нем повернулось – и он уже не мог слепо, бездумно, покорно подчиняться Генке, быть чисто механическим инструментом в его руках: куда Генка направил – туда и иди, что приказал – то и делай. И не рассуждай при этом, не лезь со своими мнениями, которых у тебя не спрашивают… Четких слов – что именно его отвращает – у него не было, он не смог бы объяснить даже себе, словесно все это в нем еще не оформилось, но внутренние чувства были явственными и сильными. Непреодолимыми. Больше не хочу! Не могу. Все, точка! Противно!
– Ты чего это отделяешься? – недовольно спросил Антона Генка, заметив, что Антон потерял прежний пыл, вяло встречает его распоряжения и не спешит их исполнять.
Антон, сбиваясь, бледнея от охватившей его решимости, кое-как выговорил, что пора всю эту ерунду кончать, творят они гадости: насильно заставляют сказать то, что человек говорить не хочет, и никто не должен, не имеет права его об этом спрашивать: кто из девочек или мальчиков ему нравится. А уж бить, чтобы выдали тайны друзей, – это совсем подло. Против всех честных правил. Предательство – самое скверное, что только есть на свете. А мы к нему принуждаем. Так что пора такую игру бросать, а то она заведет в совсем грязные дела. Во всяком случае, он, Антон, в ней больше не участник!
Осуждение аморальности, насаждаемой Генкой в руководимой им игре, Генка в Антоновых словах не уловил, это осуждение скользнуло мимо его сознания и слуха, зато он крепко уловил, что Антон не желает ему подчиняться – и весь сосредоточился на этом. По своей собственной воле выходит из-под его власти! А этого допускать нельзя. Это опасный пример для других. Потом взбунтуется, проявит непокорство, полезет со своей критикой кто-нибудь еще. И еще… И власть его рухнет, рассыплется. И кто же он, Геннадий Сучков, тогда? Просто один из дворовых мальчишек, с которым любой может уже не считаться, спорить, опровергать его мнения, держаться на равных. Нет, с такой перспективой, на такую роль и судьбу согласиться Генка не мог.
В Генке закипела злоба. Лютая злоба. Но изливается такая злоба не сразу. Она сначала растет, копится, доходит до предела – и только тогда прорывается наружу. Как взрыв парового котла. Или, в теперешних представлениях, атомного заряда, достигшего критической массы.
Драка произошла спустя несколько дней, когда уже все – и дети, и взрослые – убрались со двора по своим квартирам; двор, окружающие его сараи, цветочные клумбы, молоденькие тополя с лаковой листвою, высаженные весной, тонули во мраке. На высоком столбе посреди дворовой площадки горела неяркая электрическая лампочка под жестяным абажуром. Антон и Генка тоже, вслед за другими, направлялись к себе домой, но задержались и, стоя в желтом кругу лежавшего на земле возле столба света, вели разговор. Он совсем не касался состоявшейся у них стычки, не было никакого повода для нового накала чувств, новой остроты в их отношениях, но Генка искал, к чему придраться, и все же нашел.
Читать дальше