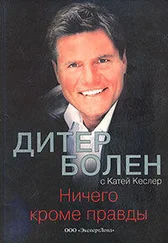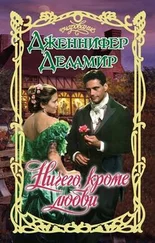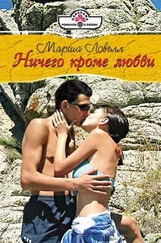Молодой инвалид в защитной стеганке, с заткнутым за пояс пустым рукавом, остановился у веранды, окликнул Таню:
– Гвардейский привет боевой подруге! Из логова?
Таня кивнула.
– Ну как там фрицы, дышат еще? Теперь, небось, тихими стали, оглоеды! А дружка моего уже после Дня Победы вервольфы подстерегли. Кенигсберг вместе брали, поняла? Только я оттуда в госпиталь – во, гляди, левую верхнюю конечность отдал за Родину! – а дружок дальше пошел, добивать фашистского зверя... Чего привезла-то? Отрезы хорошие есть?
– Нет, – ответила она, – вот насчет отрезов не сообразила.
– Ладно, не строй дурочку, – инвалид подмигнул, оценивающе глянул на ее чемодан. – Вообще-то багаж у тебя малогабаритный. Что – часы? Беру. Иголки тоже беру, патефонные, швейные, какие хошь. Кремни есть? Зажигалки?
– Тебе какие – термитные, фосфорные? Могу еще с десяток гранат уступить, по дешевке. А «вальтер» офицерский не нужен?
Инвалид испуганно оглянулся, постучал кулаком по лбу.
– Ты соображай, дура, чем шутить можно! Психованная, что ли, ну тебя на фиг... С какого фронта демобилизовалась-то?
– С Первого Украинского, – ответила Таня; она давно уже поняла, что так проще. Не объяснять же каждому!
– А я на Третьем Белорусском отвоевался, – сообщил инвалид. – Под городом-крепостью Кенигсбергом – слыхали про такой? Ну, бывай, сестренка! Да не трепись чего не надо, это тебе не передок.
Инвалид, еще дальше сбив на затылок фуражку, побежал к трамвайной остановке, куда только что подошел вагон – облезлый, в проплешинах ржавчины, с заделанными фанерой окнами. Таня смотрела на эту толпу, на развалины, на гнущиеся под ветром полуголые уже деревья и вспоминала, как они с Люсей говорили однажды о том, какой праздничной будет послевоенная жизнь, как преобразится мир, когда наступит в нем тишина. «Праздничной» они представляли себе жизнь после войны не в смысле изобилия, до такого их наивность все же не простиралась; разруху, трудности восстановления – все это они себе представляли хотя бы по аналогии с периодом гражданской войны, еще недавним в памяти старших. Чего они не могли предвидеть совершенно, так это той душевной разрухи, которая останется после войны... И которая будет страшней материальных развалин.
А разве можно было предвидеть странное чувство, овладевшее ею сейчас при виде этих улиц? Это была тоска по недавнему прошлому – не по довоенному, то как раз было давним, слишком давним, чтобы восприниматься как живая реальность; нет, сейчас она вспоминала гораздо более близкие годы – сорок второй, сорок третий, когда чужой был врагом, а свой – другом, когда сама жизнь безошибочно отделяла предателей от честных людей, когда добро и зло были четко размежеваны, и надо было только сделать выбор. Когда и представить себе было нельзя, что люди, еще вчера служившие одному – казалось бы – делу, завтра начнут ненавидеть друг друга, словно обезумев в липкой отравленной паутине страха и подозрительности...
Володя, Леша Кривошеин, тысячи им подобных – какой чистой была их жизнь, какой завидной оказалась смерть. Может, и лучше, что вы не дожили, не узнали, не увидели... Леше пришлось бы отвечать, почему только он один уцелел из всего подпольного руководства, так ли уж «случайно» отлучился в тот день из города. Про Володю и говорить нечего – в армию призван не был, а в плен попал, выходит, сам напросился. А разве не поставили бы им в вину методы подпольной работы? Ей прямо сказали, что это было чистой воды очковтирательство, по сути – скрытая форма пособничества врагу. «Листовочки они печатали, – издевательски говорила сотрудница, которая беседовала с Таней чаще других, – а почему не убивали фашистов, почему не жгли ихние машины, почему не выполняли прямое указание товарища Сталина?». Хорошо еще, хоть сам факт признали, что подполье действовало...
На трамвайной остановке что-то случилось, загалдели и загомонили еще громче, баба истошно заорала «ой лышечке, тримайтэ його!». Пробежал милиционер, бухая сапогами и пронзительно вереща в свисток. Признали, горько подумала Таня, глядя перед собой невидящими глазами. Может быть, только потому и признали, что речь все-таки шла о племяннице человека, который через две недели после Победы был в Москве на правительственном приеме – вместе с другими командармами и командующими фронтами. Да никто и не считал нужным скрывать, что судьба ее могла бы оказаться совсем иной: та же особа, что говорила о «листовочках», однажды схватила ее за волосы и, отгибая голову назад, прошипела прямо в глаза: «Сучка ты, а не комсомолка, я бы с тобой по-другому поговорила...» Это был единственный случай, вообще следователи ничего такого себе не позволяли; но он запомнился. Куда больнее и унизительнее запомнился, чем тот день, когда ее хлестал по щекам шарфюрер Хакке...
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу