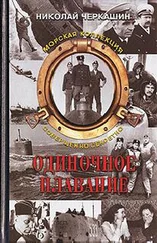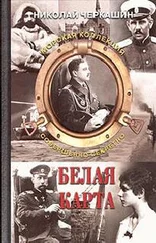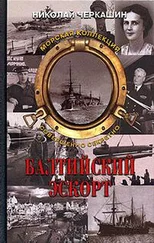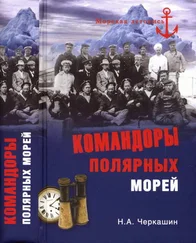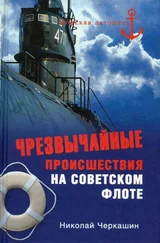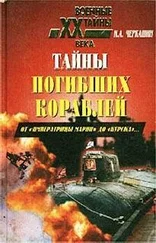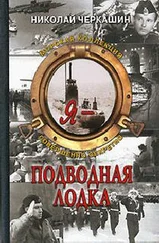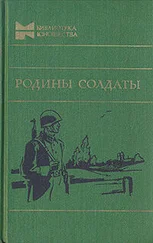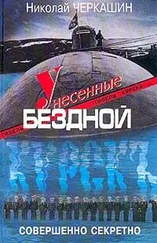— Эта вещица принадлежала командиру «Орла» капитану первого ранга Юнгу… После его смерти отец взял мундштук на память. Юнг был другом его отца, моего деда.
Андрей Леонидович достал длинный кожаный футляр. Я следил за ним как завороженный. Он откинул колпачок-крышку, синевато блеснули линзы.
— Это сигнальщики подобрали и принесли отцу его подзорную трубу. Она валялась в боевой рубке среди осколков дальномера…
Я заглянул в окуляр почти новенькой, английской работы трубы. О, если бы можно было увидеть все, что преломлялось в ее стеклах!..
— С ней связана любопытная история. Из лагеря русских военнопленных просматривалась военная гавань, куда японцы привели изрешеченный «Орел». Инженер Костенко — в «Цусиме» он выведен как Васильев — взял у отца подзорную трубу и, прячась в кустах, стал изучать и зарисовывать пробоины в борту броненосца. Разумеется, он рисковал, но ему, как кораблестроителю, важно было знать уязвимые места «Орла». Потом ему пригодилось это в практической работе. [11] Более того, спасло от царской каторги, когда жандармы арестовали Костенко за революционную деятельность в 1910 году. Академик А. Н. Крылов, бывший тогда председателем Морского технического комитета, вспоминал: «В воскресенье ко мне явилась жена Костенко и передала толстую книгу с описанием повреждений, полученных нашими судами в Цусимском бою, составленным Костенко по опросу матросов и личным наблюдениям во время плена в Японии. Я тотчас же поехал к Григоровичу (морскому министру. — Н. Ч.), показал ему эту книгу и объяснил, что в ней заключается неоценимый боевой опыт. Григорович сказал мне: — Я завтра же покажу эту книгу государю. …Царь его спросил, знает ли он Костенко. Григорович ответил, что знает. — Действительно ли, это талантливый офицер, как о нем пишет Крылов? — Действительно. — Нам талантливые люди нужны. — Царь открыл ящик письменного стола, вынул приговор в написал на нем: „Дарю помилование“».
А вот, собственно, то, что вы так долго искали.
Андрей Леонидович осторожно вытащил из шкафа переплетенный сборник отцовских очерков. «Аварии царского флота»! Да, конечно, это нельзя было назвать книгой в строгом смысле слова. Полусамодельное издание — без выходных данных, без сквозной нумерации страниц — представляло собой сброшюрованные журнальные тетрадки. То была скорее мечта о книге, чем сама книга, прообраз ее, макет… Но я сразу же забыл об издательских несовершенствах, едва перелистал страницы, едва вчитался в первые абзацы… Очерки об авариях и катастрофах кораблей царского флота были написаны живо, образно, почти мемуарно; язык выдавал человека слегка саркастического, но глубоко знающего историю флота, его людей, подоплеку каждого случая…
Бронзовые морские часы пробили в полутемной гостиной час ночи. Я встал из-за стола, заваленного альбомами, дневниками, газетными вырезками.
— Вот что, — сказал мне на прощание Андрей Леонидович, — попытайте-ка вы завтра счастье в отделе рукописей нашей Публичной библиотеки. Там хранится большая часть отцовского архива. Могут быть любопытные находки. А книгу возьмите с собой. Прочтите не спеша.
Я уходил не из квартиры, я покидал борт броненосца «Орел», незримо пришвартованного к одному из ленинградских домов.
Глава третья. «В домике близ буддистского храма…»
Спать в ту ночь я так и не смог. Включил лампу на прикроватной тумбочке и стал читать прямо в постели.
Скажу, чуть забегая вперед, что книга эта надолго стала для меня чем-то вроде лоции в моем поиске, путеводным пособием. По ней я определял номера нужных фондов в архиве, по ней я выбирал книги, освещающие те далекие времена, в которых жили и действовали мои герои и их корабли. Эта удивительная книга подсказывала мне новые имена и помогала находить концы новых нитей. Думаю, такую же добрую службу она сослужила не мне одному. Право, она стоит того, чтобы рассказать о ней подробнее.
В 1893 году Россия была потрясена, взволнована, взбудоражена таинственным исчезновением броненосца береговой обороны «Русалка». Хорошо вооруженный пароходный корабль исчез средь белого дня не в океанских просторах, а во внутренних водах на полпути из Ревеля в Кронштадт, исчез со всем своим экипажем в 177 человек. «Русалку» искали, спускали водолазов, вглядывались в воду с воздушного шара, запущенного с парохода «Самоед». Все было тщетно. Ни один труп не прибило к берегу, и это тоже вызывало досужие домыслы. В церквах поговаривали, что кара господня постигла корабль за то, что он назван «нечистым именем»:
Читать дальше