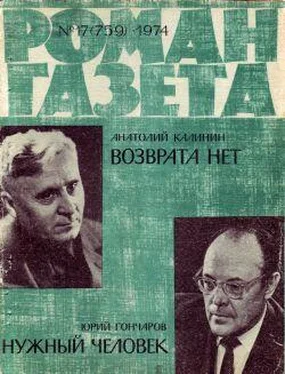– С чего это взяла ты? – испуганно вопросил Степан Егорыч, сомневаясь, не ослышался ли он, так ли понял Василису. – Наговариваешь только себе беду!
– Нет, Степан, я знаю точно!
– Извещенья ж тебе не было!
– Было, Степан, было… – тихо, с какой-то мужественной твердостью кивнула головой Василиса. – Еще той зимой. В городе раненый один лежал, присылал мне письмо, я ездила…
– Может – ошибка? Похоронную ж ты не получала!
– Похоронной нет, а только не ошибка. Он, этот раненый, с Николаем в одной части находился. Они адресами обменялись, – если что – так чтоб другой семье написал… Бумажку эту я видела, сохранил он. Еще в сентябре того года он убитый. Товарищ этот его мне и место записал, где могила. В Смоленской области, Демидовский район, деревня Сеньковичи. Видишь, больше года. Если б в живых был – какая-нибудь весть да пришла…
Горе было уже освоено, пережито Василисой. Одно не мог уразуметь Степан Егорыч – как она сумела удержать это в себе, столько времени носить не видно для людей и полсловом не обмолвиться никому на хуторе?
– А зачем? – вопросом же ответила Василиса. – Так только считается, что от сочувствия облегчение. А от него никакой помощи. Ну, стали бы меня жалеть, на каждом шагу напоминать, – только б сердце рвали, и все… Ольга знает и муж ее, но я с них слово взяла. Теперь вот ты знаешь. А Катька не знает, и никто больше. И не надо Катьке знать. Ждет отца, как все ждут, – и пусть пока… Так что ты так про меня не думай, я не изменница… А то б разве так-то было? Я ведь смелая, ни на что не погляжу, если захочу чего, ничто не остановит… Вот ты мне понравился, видишь – так прямо тебе и отрезала. Что, зазорно, нельзя так? Что ж, иль мне теперь для себя ничего не желать, так, одинокой, и свековать свой век? Жалко ведь, Степа, жизни еще сколько… Я б еще и нарожать хотела, мальчишек, чтоб были у Катьки братцы, что ж она одна, как перст, ниоткуда ей потом не будет помощи… А время – оно пролетит и не заметишь как. Ждать, может, судьба кого еще пошлет? Ничего ведь, Степан, такие-то, как я, впереди не дождутся. Много ль мужиков после войны назад придет?
– Меня, Василиса, дома ждут… – сказал Степан Егорыч, горюя про себя, что ему приходится как бы второй раз делать Василису одинокой и тем самым увеличивать в ней тоску и боль души.
– Вот это-то и главное, что не удержу я тебя при себе, – сказала Василиса печально. – Ты семье предан, не оставишь ее, даже если б и ты меня полюбил. Все равно уйдешь. Ведь уйдешь?
– Уйду, – сказал Степан Егорыч.
– Вот видишь! – сказала Василиса. – И я это чую – не привязать тебя насовсем. Как только настанет время – так и уйдешь.
Она помолчала и заключила почти что весело, как бы облегчая себя от серьезности чувств, с какою открывалась Степану Егорычу:
– Так что никакой любви меж нами и не может быть! Зря я тебе сказала, – подумав, прибавила она. – Не знал бы ничего – и так бы и не знал… А то теперь думать начнешь. В смуту только я тебя ввела!
Запахивая полушубок, она заторопилась выбраться наружу из соломенного убежища.
– Ладно, хоть посидели рядком – и то хорошо, мед на душу. Давай-ка дело завершать, буран не переждешь. А сидеть будем – этак и сумерки нас пристигнут…
Незадолго до нового года Дерюгина сызнова позвали в военкомат.
Он поехал без тревоги, полагая, что обойдется, как в те разы: подержат день-два, и выйдет новая отсрочка, – все ж таки пятый десяток на исходе, к тому же – руководящий кадр. Старых председателей и так мало в районе осталось, не оголять же колхозы совсем…
Ан, про отсрочку и речи не пошло. Отпустили только на сдачу дел да попрощаться с семьей.
Степан Егорыч трудился на мельнице, мазал из масленки шестерни; тут ему и передали, чтоб он срочно все бросал и шел в контору.
Дерюгин сидел за своим столом без шапки, но в полушубке. Ничего перед ним не было, никаких бумаг, лежали только кисет да газета, сложенная гармошкой, и вид у него был человека, уже от всего отложившего свои руки. Густо плавал махорочный дым, хотя мужчин в комнате было всего двое – Дерюгин да счетовод Андрей Лукич. Остальной народ были женщины, колхозный руководящий состав: заведующие фермами, в том числе и Василиса, кладовщица Таисия Никаноровна.
– Слыхал? – спросил Дерюгин у Степана Егорыча.
– Да уж слыхал, – отозвался Степан Егорыч.
На лавке у стены было место, Степан Егорыч прошел, сел. Дерюгин всегда давал ему закуривать из своего кисета, он всем давал, не скупился, в конторе кисет всегда вот так и лежал у него на столе, для всех. Но сегодня он был рассеян, не предложил Степану Егорычу. Зная его правила, Степан Егорыч сам потянулся к махорке. Дерюгин растил ее на своем огороде, и была она у него соблазнительная, как ни у кого на хуторе, – особого, какого-то нездешнего сорта, тонкорубленная, с добавлением для духа и вкуса разных степных трав.
Читать дальше