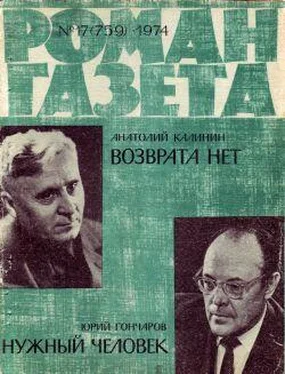И Степан Егорыч согласился, сказал то, что хотела она услышать – действительно, от войны повсюду сумбур и непорядок, и это сколько угодно, что письма пропадают по дороге, особенно, если с фронта. Известно, ка́к там – бомбежки и прочее, войска постоянно в перемещении, туда, сюда, где ж в такой колготе почте нормально действовать. А то еще так: нет писем и нет, долго нет, а потом сразу несколько. Оказывается, находились в боях, не до писем было…
Он изложил это девочке, как полную правду, вспомнив, сколько сам на фронте написал писем Поле. Одно, первое, как на формировании были, второе – по дороге на фронт. А потом пошли недели – ни сна, ни отдыха, все время отступали с боями, попадали в окружение и вырывались из него; мысли были об одном – о немцах, патронах, воде, раненых сотоварищах. Поубивало командиров, три раза менялся номер части…
А потом уж и писать стало некуда: осталась его Заовражная далеко по ту сторону фронта…
Ночью Степан Егорыч лежал тихо, но без сна. Дышалось как-то трудно, тело было усталым, больным, голова тяжелела, – наверное, с дороги, с голоду. Он только и поел за целый день, что в хуторе, куда заезжали. У Василисы, конечно, нашлась бы для него еда, но одалживаться у нее язык не двигался у Степана Егорыча. Завтра Дерюгин что-нибудь выпишет ему из колхозной кладовой, авансом, будет у него своя пища, а пока – ничего не сделаешь, надо терпеть…
Василиса так и не вступила с ним в разговор: молча достирала, подтерла пол, погремела у печи чугунами, готовя на утро поросенку затируху из картофельных очисток и отрубей. Степан Егорыч по-прежнему все сидел на табурете, прокашливаясь, когда было уже совсем не сдержаться, мучительно желая покурить. Но он уже знал, что у местных не принято дымить в доме и Василиса этого не одобрит. Выходить же на двор, на мороз и ветер, страсть как не хотелось, он только начал по-настоящему согреваться. Но все же он вышел, постоял за углом хаты, где меньше прохватывал ветер, жадно высосал цигарку из последнего Василь Петровичева табака. От курева, которым он был богат, теперь у него осталась только пачка папирос производства Федора Карболкина, про которую Степан Егорыч решил, что ее надо тянуть подольше: кто знает, разживется ли он тут табаком, может, тут, у здешних, такой обычай, что и не курит никто, и табака даже не сеют, не заведено…
Когда он вернулся, Василиса разбирала кровать за печкой, отгороженную от комнаты ситцевой занавеской. На табуретке Степана Егорыча горкой лежали толстая войлочная кошма, одеяло, подушка в свежей, только что надетой наволочке.
Степан Егорыч понял, что это его постель. Он составил у стены две лавки, разостлал вдвое кошму, улегся. Получилось ничего, только коротковато: если протянуть ноги во всю длину, ступни повисали за краем скамей.
Ах, да так ли еще он спал за эти полтора года войны, разлуки с домом! Где только и как ни приходилось ночевать! В холодных мокрых стогах посреди пустых, разбухших от дождя полей… В соломе всю ночь шуршали мыши, случалось, ползали прямо по телу, падали на лицо… В топи, где ноги тонули по колено, на болоте случалось ночевать, – это в окружении, поздней осенью сорок первого; вода на открытых местах была уже в пластинках льда; спали полустоя, полусидя, скрючившись на кучах натасканного хвороста, жердняка, а верней сказать – вовсе не спали, маялись, пережидая ночь, в сыром вязком тумане, оседавшем к утру инеем на болотную траву, на ветки деревьев и кустов… На сеновалах, в сараях, в избах каких! Не перечислить, не вспомнить всех. В одной старик хозяин, гадина, поубивать всех хотел. Благо, один боец высмотрел, что он со двора топор в фуфайке принес и под голову себе положил. Зачем топор? Старик, когда его трясти начали, сослался – дескать, от страху, вдруг немцы придут. Какой страх – полна хата солдат и все с оружием. И что топором с ними сделаешь, с немцами? Ясно, своих хотел во сне перекрошить, от немцев уважение заработать. Может, лавочку ему разрешат, какая у него в старое время на деревне была.
И вот – Сухачёв-хутор. Тридцать саманных хатенок среди сугробов и самих похожих издали на сугробы в бескрайнем белом просторе приуральской степи… Про эти места он и не слыхал раньше. Так, смутно только – есть далеко какая-то Урал-река, населена казачеством, прежде они всё воевали с азиатцами, ходили на Бухару, на Хиву… Это ему отец рассказывал, а отцу – дед. Были они самые обычные крестьяне, мужики, но тоже довелось им испить солдатскую чашу. Отца Егора Тимофеевича на русско-японскую войну забирали, через всю Россию в теплушке везли; остался живой, был только контужен снарядом японской гаубицы. Дед не воевал, но срочную служил и до самой смерти помнил солдатскую науку, так в него крепко ее вложили: как в строю стоять, как ружейные приемы делать, все команды помнил и мог повторить, сигналы, которые полковой трубач играет.
Читать дальше