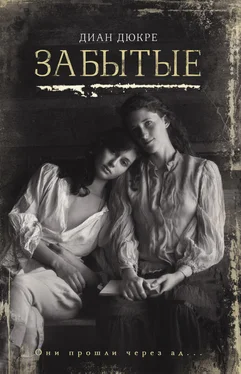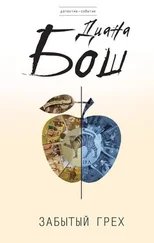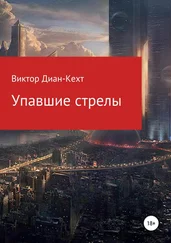Иногда случается, что люди одновременно, не сговариваясь, смотрят на один и тот же предмет. Ева и Лиза одновременно бросают взгляд на табличку, перед которой их останавливают. Буква G , барак номер двадцать пять. Вот и координаты их кораблекрушения. Почти театральным жестом перед ними открывают настежь прогнившую дверь, за которой смело пробивается зеленый мох, как будто этому обжоре недостаточно остальной территории лагеря, такой же влажной и заплесневевшей. Под непромокаемой парусиновой тканью – прямоугольная коробка из необработанной древесины, со светлыми балками и островерхой крышей; как только переступаешь порог, возникает ощущение, будто находишься в миниатюрной церкви, которая еще не достроена. Балки воткнуты прямо в землю; тридцать справа, тридцать слева, между ними – около метра. Вот их жизненное пространство: метр на каждую. Это меньше, чем территория, выделенная под мох. Лиза замечает, что внутри бараков все так же симметрично, как и снаружи; коридор, по обеим сторонам которого лежат тюфяки, почти соприкасаясь друг с другом. На оголенной проволоке, свисающей с потолка посреди помещения, раскачивается лампочка. В другом конце этого нового, но уже полуразрушенного здания есть еще одна дверь, прямо напротив первой; длинный коридор словно пролив между двумя вражескими морями. «Может быть, это прихожая ада, а за дверью есть яма, над которой поднимаются языки пламени?» Десяток незастекленных отверстий пропускает потоки воздуха. На них – простые деревянные затворки; из-за них ничего не видно. Мира больше не существует. Нет ни туалетов, ни раковин, ни мебели.
Две хорошо сложенные заключенные стучат по полу сабо, напоминая жвачных животных, которым не терпится оказаться в стойле, толкаются в узком коридоре, чтобы скорее протиснуться к койкам; одна из них, послабее, вытягивается на полу, испачканном свежей грязью. Лиза, пользуясь неразберихой, пытается занять тюфяк в глубине помещения, чтобы у нее была только одна соседка, с которой можно было бы перекинуться словом, – Ева. Кто-то кладет Лизе руку на плечо. Похоже, это лежбище уже занято. Женщина, опередившая Лизу, что-то ворчливо бормочет на эльзасском диалекте. Уважать чужое жизненное пространство, если не хочешь, чтобы тебя покусали: это правило животного мира справедливо и для тех мужчин и женщин, которых человечество обрекло на суровое испытание. Хорошие места заняты: Лиза при свете одинокой лампочки пытается понять, какое из них могло бы быть ее. Многие женщины уже устроились; большинству из них едва исполнилось двадцать лет. Молодым нужен простор, чтобы выжить: как же они выдержат? Женщины втягивают головы в плечи, чтобы не удариться о деревянные доски. Этим вечером они не будут есть. Хватит ли у них сил? «Отбой!» Дверь закрывается за шестьюдесятью жизнями, шестьюдесятью женскими сердцами, наполненными любовью к тем, кого они оставили в дальнем краю.
Они почти не видят друг друга, зато в сумерках слышнее их голоса, отчетливее прикосновения. Женщины на ощупь ищут подруг, тех, рядом с кем ехали в поезде. Слышно, как повторяют имена, словно эхо в темной пещере, призывающее лучик света.
– Лиза, ты здесь?
– Да.
– Где?
– Тут. А ты?
– Здесь.
Она не одна в этой тьме, потому что рядом Ева. Когда на каждый вопрос получен ответ «да, я здесь», шум в бараке постепенно стихает. Женщины падают на тюфяки, сшитые из ткани в бело-синюю полоску, глубже вжимаются в солому, чтобы было не так холодно.
Сидя по-турецки, Лиза открывает чемодан и пытается нащупать там жилет. Вдруг под большим и указательным пальцами она чувствует нечто такое, о чем давно забыла. Лиза вынимает из чемодана маленькую тирольскую куколку. Фрида спрятала ее туда, когда дочь уезжала, а та ничего не заметила. Лиза закрывает куколке глаза, не желая, чтобы она видела свою хозяйку в этой мерзкой клоаке, поправляет красный передник и зеленое платье, как делала в детстве, когда ложилась спать. Прикосновение к этой ткани, которую Лиза могла гладить часами, когда боялась грозы или школьных экзаменов, стирает границы времени…
Берлин был прекрасен в то время, когда отец Лизы перевез туда Фриду – незадолго до рождения дочери. Они уехали из австрийского Тироля. Берлин сверкал в лучах света. Отец Лизы служил в банке, занимал скромную должность, но умел создавать, пусть даже в полупустой квартире, которую они сняли, ощущение изобилия и безопасности. Что бы ни случилось, Якоб Малер умел добиться всего. Если бы он сейчас, как раньше, взял Лизу на руки и прижал ее к своему любящему сердцу… Он погладил бы дочь по шее, растрепал бы ее волосы своими большими ладонями, и все было бы забыто. За круглыми очками с толстыми стеклами блестели маленькие глазки, уже тогда казавшиеся ей далекими. Отец помог Лизе задуть пять свечей на праздничном торте, подарил ей в тот день маленькую куколку, привезенную из тех мест, где его дочь была зачата. Куколка была красивой и мягкой на ощупь… Лиза гордо принесла ее в школу, чтобы похвастаться перед друзьями. Но маленькие бесята лишь посмеялись над ней: у самой волосы как смоль, непослушные пряди торчат в разные стороны, а у куклы – светлые аккуратные косички! В тот день их класс ездил на экскурсию на Ванзе, остров в центре города, окруженный тремя озерами, куда приезжали купаться, когда было тепло. Там Лиза потеряла новую куклу, из-за которой в классе поднялась такая шумиха. Девочка вернулась домой расстроенной, решив больше никогда не смотреть отцу в глаза и чувствуя себя недостойной этой гигантской руки, сделавшей ей такой хороший подарок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу