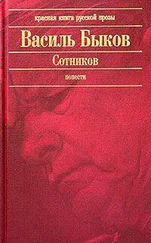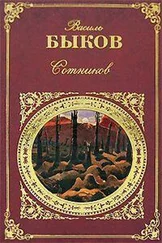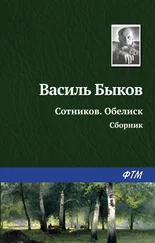– Я плен, камарад немец… Сам плен, сам…
Взгляд его метался по лицам мотоциклистов. Он старался угадать более человечного и снисходительного из них или увидеть офицера, и тут его взгляд встретился с мрачными глазами человека в фуражке с высокой тульей и в шинели, на которой бархатом чернел воротник. Поняв, что все получилось не так, как он думал, и оттого не в состоянии преодолеть дурного предчувствия, он бросился к этому немцу:
– Господин офицер! Я ведь сам, я плен, плен…
Офицер даже не взглянул на него. Он что-то говорил солдатам, натягивая на жилистую руку желтую кожаную перчатку. Пшеничный тогда совсем перепугался и окончательно пал духом, почувствовал: случилось непоправимое.
Немцы, разговаривая между собой, уже безразлично посматривали на Пшеничного. Офицер что-то сказал солдату с отвислой губой, тот дернул Пшеничного за рукав и махнул рукой вдоль дороги. Пшеничный догадался, что нужно идти, и, оглядываясь и спотыкаясь, пошел, думая, что немец будет его конвоировать. Но солдаты оставались на месте. Видя его нерешительность и, вероятно, желая подбодрить, они замахали руками в направлении пустой утренней улицы. Он удивился, поняв, что они не будут сопровождать. Его лицо исказилось болезненной гримасой, и Пшеничный, время от времени оглядываясь, боязливо пошел по дороге.
Так он отдалился шагов на сто, немцы все стояли сзади, один мотоцикл затрещал мотором и развернулся, направляясь за ним. От страха Пшеничный уже терял власть над собой и, не зная куда и зачем, как пьяный, брел по грязи, изрезанной следами резиновых шин. У поваленных ворот обнесенного забором двора неожиданно появилась испуганная женщина в толстом платке с пустыми ведрами на коромысле. Пшеничный даже похолодел от неожиданности этой недоброй в такой момент встречи и в то же время вздрогнул от гулкой пулеметной очереди сзади. Грудь его пронзила адская боль, и он, надломившись в коленях, осел на грязную землю улицы.
Напоследок, судорожно хватая ртом воздух, Пшеничный еще услышал горестные причитания женщины и дико замычал – от боли, от сознания конца и последней лютой ненависти к немцам, убившим его, к тем, на переезде, еще оставшимся жить, к себе, обманутому собой, и ко всему белому свету…
Та же пулеметная очередь, что оборвала озлобленно-нелюдимую жизнь Пшеничного, вывела из полусонного забытья и Фишера. Ничего не понимая, он вскочил в окопе и тут же снова свалился на его дно, подкошенный болью в сведенных судорогой ногах. Уже совсем рассвело, хотя поле и лес еще затягивала редкая пелена тумана. Было тихо и сыро. У дороги расплывчато и неподвижно застыли на фоне мутного неба березы. Дорога лежала пустая. Из-за ложбины тусклым белым пятном едва пробивалась сторожка. Деревни, окутанной туманом, отсюда не было видно.
И тогда из сумеречной дали, в которой исчезала дорога, прорвался, нарушив предутреннюю тишину, беспорядочный треск моторов. У Фишера тревожно заныло в груди, ослабели руки. Настороженным взглядом впился он в даль и почувствовал, что именно сейчас наступила минута, которая определит весь смысл его жизни. Кое-как собрав воедино остатки душевных сил, он привычно передернул затвор и уже не сводил близоруких глаз с затуманенной далью дороги, на которой должны были показаться немцы. Или враг не спешил, или так уже ослабело зрение, только он ничего не различал там, а мотоциклы все продолжали трещать. Несколько минут передышки помогли Фишеру справиться с волнением, и он с необычайной ясностью понял, что ему тут придется туго. Но при таких обстоятельствах, когда все его действия в этом поле были на виду у старшины, он, сам того не сознавая, хотел, чтобы Карпенко наконец убедился, на что способен «ученый». Это не было тщеславием новобранца или желанием отличиться – просто так нужно было Фишеру. Видно, за эту мучительную ночь раздумий немудреная карпенковская мерка солдатского достоинства стала в какой-то степени эталоном жизненной годности и для Фишера.
И он ждал, от напряжения и внимания мелко стуча зубами и до боли прижимая к плечу приклад винтовки. У мушки слегка колебался на ветру какой-то высохший стебелек. От учащенного горячего дыхания у Фишера запотевали стекла очков, но он боялся снять их, чтобы протереть. Он с необыкновенной ясностью осознал сейчас свои обязанности и был полон решимости выполнить их до конца.
А вообще ему было нелегко, и он старался подбодрить себя, успокоить тем, что гении, творившие искусство вечного, – и Микеланджело, и Челлини, и Верещагин, и Греков – в свое время брались за шпагу, мушкетон или винтовку и шли в грохот батарей. Видно, борьба за право существования была первичнее искусства, и ей, вероятно, суждено пережить его. Этот неожиданный вывод слегка успокоил Фишера, и он почувствовал себя немного сильнее.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


![Семён Колосов - Мертвецам не дожить до рассвета. Герметичный детектив [СИ]](/books/30488/semen-kolosov-mertvecam-ne-dozhit-do-rassveta-ger-thumb.webp)