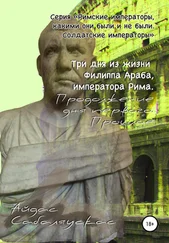* * *
Он затормозил и протянул Рудату фляжку. В ней был ямайский ром, который он вчера получил от Цимера за сообщение о том, что он, Муле, видел интендантовы пуховики в Короленко на квартире Пёттера и Рудата.
– Ваше здоровье, господин унтер-офицер! - сказал Муле. Рудат выпил. Муле трещал, что этот старый болван Цимер теперь тише воды ниже травы, так что Рудат может раздавить его, как вошь, ротный-то, мол, смекнул, что он за птица, после того подлого доноса гестаповскому шефу Хазе. В общем, Рудат теперь от Вилле что угодно получит, правда-правда. Стоит ему захотеть, и обер-лейтенант его даже на офицерские курсы пошлет. Плохо ли? Три месяца дома, в Германии, бабы, кино! Эрнст Муле худого не присоветует.
Он громко трещал, хлопал Рудата по плечу, на лбу у него выступили мелкие капли пота. Вспотел он от страха за свое денщицкое место. «И как я только мог связаться с этой вестфальской деревенщиной? Ведь знал же, что ротный глаз положил на мальца. Теперь уж что говорить, вся эта история Вилле ох как на руку. «Герой Требловки», «украшение роты»… и в кинохронику заснимут, и нос начнет драть. Да, этак и без отпуска недолго остаться. Неужто наш хитрюга обер-лейтенант и впрямь педик? Разве нормальный мужик что поймет по его непроницаемой харе?»
У Муле было такое ощущение, будто он говорит со стенкой, будто Рудата все это нисколько не интересует, будто он не слушает, думая о чем-то своем. Даже как-то не по себе стало. Ни слова, ни движения, глаза пустые. Только ром выхлестал - и все.
– Давай-ка еще по маленькой, - предложил Муле. - Все-таки здорово ты!.
Они уже ехали по Требловке. Кругом тишина. Солдаты сваливали в грузовики чемоданы и узлы. Машины переезжали от одного пустого дома к другому. Возле площади Муле пришлось сделать крюк, потому что школа и машинный сарай еще дымились и танки загораживали подъездные пути. Резко воняло соляркой. [92]
Рудату вдруг стало страшно холодно, а вместе с холодом пришла некоторая ясность. Мысли ворочались еще туго и медленно, часто застревая на мелочах («При чем тут осколки стекла?»), то и дело путаясь, но все же он сумел кое-как разобраться в истории, которая началась совсем не в подвале и завершилась тоже не в забитом трупами выжженном бункере. История была омерзительная, и он понимал, что непременно должен довести ее до конца - любого конца. Хотя все было ему до тошноты безразлично, чуждо и происходило будто вовсе не с ним. Он сам себе казался выпотрошенным трупом, разобранной боевой машиной, за которой оставили кое-какие функции: например, она могла двигать конечностями и по-прежнему крепко сжимала заряженный пулемет, обладала памятью и способностью протестовать, протестовать каждым исстрадавшимся мускулом, каждым измученным нервом, каждой истерзанной клеткой мозга. Они въехали в гору, цвел дрок - точно желтая сыпь на изрытом лике земли.
* * *
Рота Вилле, наспех собранная из остатков разбитых под Хабровкой подразделений, расположилась лагерем на чуть возвышенном лугу под большими деревьями. Жарили гусей (один гусь на четверых), и было вдоволь пива, чтобы поднять настроение. Солдаты уже меньше бранили и эсэсовцев, которых всегда снабжают лучше, и войну вообще. Многим было весьма не по нутру, что пришлось участвовать в карательной экспедиции. Кто-то пустил слух, что дивизию перебросят, скорее всего, в Италию. Некоторые расписывали все в подробностях. Поговаривали и об отпусках. Вилле приказал два часа отдыхать. Солдаты спали, били вшей, гоняли в футбол, вместо мяча - свиной пузырь. Обер-лейтенант благодушествовал и даже постоял в воротах. Геройский поступок Пёттера и Рудата неожиданно представил его перед Фюльманшем в выгодном свете. Ведь Фюльманш полагал, что оба действовали по приказу Вилле. И теперь Вилле радовался, что может наградить именно Рудата, действительно радовался. Что ни говори, только в таких оригиналах и есть изюминка. Он подозвал нескольких солдат и намекнул, что надо бы встретить Рудата посердечнее.
* * *
Цимеру даже пиво казалось безвкусным. Считая, что его обошли, он ломал голову, как бы вывернуться из неудачной ситуации, и в конце концов решил извиниться перед Рудатом сразу после того, как Вилле прицепит ему эту штуковину. Тяжко, но ничего не поделаешь.
* * *
Едва мотоцикл Муле выскочил на луг, рота и футбол бросила, и про вшей забыла. С криками «гип-гип ура!», как приказывал Вилле, полдюжины солдат кинулись к коляске и на плечах понесли Рудата к условленному месту, где уже собрались остальные. Два шутника изображали оркестр, еще несколько затянули под их музыку песню старой роты, которая на страх врагу не знает поражений или что-то вроде того. Потом кто-то крикнул «смирно!», и песня смолкла. Появился Вилле. Медленно подошел ближе и наконец остановился перед Рудатом, на которого опять нахлынуло прежнее беспокойство, ощущение оторванности от мира и необъяснимый страх. Вилле дал команду «вольно» и начал заготовленную речь, глядя на Рудата, грязного, неподвижного, измученного, но не выпускающего из рук пулемет. Растроганный этим зрелищем, Вилле преисполнился симпатии к Рудату и решил говорить без бумажки. Вообще-то обер-лейтенант собирался произнести остроумную и понятную речь, но вдруг заговорил о новом человеке, которого рождает наш век, о солдате-фронтовике, прошедшем сквозь огонь сражений и изведавшем глубины страдания, закаленном и неколебимом, поднявшемся над моралью и взявшем в свои крепкие руки будущее, сиречь творящем историю. Нужно [93] только научиться распознавать этого нового человека, сущность его раскрывается в тысячах неприметных героических поступков безвестных германских воинов, и в лице Рудата он, Вилле, воздает должное не просто всей роте, но и многим тысячам безымянных, серых и грязных солдат, которым не пели песен и деяния которых суть новая сага и новая одиссея. Солдаты скучали и украдкой поглядывали на часы. Вилле говорил тихо и проникновенно, круглыми фразами расписывая Рудатов характер и заслуги, пытаясь установить с ним чисто человеческий контакт. Не забыл он и Пёттера и, прежде чем продолжить речь, снял фуражку.
Читать дальше

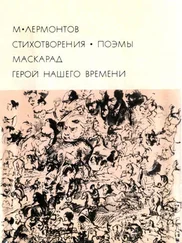





![Оро Призывающий - Герой последнего дня V [СИ]](/books/385657/oro-prizyvayuchij-geroj-poslednego-dnya-v-si-thumb.webp)