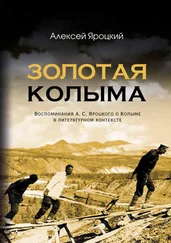Старшина Петраков, не привыкший выслушивать возражения, приказным тоном поставил пулеметчика на место:
— Завяжите в мозгу, товарищ Метченко, исполнять обязанности надо прилежно и молча. Будете рассуждать — взыщу.
Было слышно, пулеметчик тяжело, но притворно вздохнул: старшина — не лейтенант Лобода, новый командир подчеркнуто строго требовал к себе почтения.
«После боя потолкую с Петраковым. Перегибает», — решил политрук. Но очень скоро оказалось, что в назидании старшина не нуждался. К новому командиру взвода бойцы прониклись уважением удивительно быстро. Петраков, как и лейтенант Лобода, был смел до дерзости, прекрасно стрелял из всех видов оружия, но главное, чем подкупил бойцов, так это своей виртуозной распорядительностью. Бой боем, а бойцы оказались вовремя накормлены кашей и напоены горячим чаем, раненые вынесены из-под огня и перевязаны, в блиндаже, где у немцев размещались офицеры, Петраков организовал отдых личного состава.
По его приказанию неутомимый и ловкий Екимов, ползая, как уж, меж валунов, поснимал с убитых немцев ранцы и фляги. В ранцах были шикарные продукты: масло, сыр, сахар, во флягах попадался шнапс и даже ром. Все это добро Петраков делил поровну: одну часть оставлял по взводе, другую передавал сержанту Лукашевичу — для раненых.
Сержант, зная прижимистый характер старшины, прислал записку, в которой просил весь шнапс передать в медпункт, так как нечем промывать раны. Уравниловку пришлось прикрыть.
— И откуда он взял, что у нас это пойло? — возмущался Петраков, прочитав записку.
— Вы сколько оставили у себя? — спросил политрук, зная о запасах.
Старшина помялся, пошевелил тонкими губами, словно подсчитывая, ответил вопросом:
— А разве ромом рану промоешь?
— Так сколько же?
— С ромом — пять, со шнапсом — восемь.
Петраков, конечно, хитрил. Он дергал щекой, как будто силился подавить в себе обиду.
— Сержант Лукашевич просит, — мягко напомнил политрук, не намереваясь уличить старшину: он видел, как Екимов под мешки с цементом прятал эти самые фляги. Фляг было десятка два, а может, и больше. Радовало то, что по ним не составляло труда прикинуть, скольких фашистов отправили на тот свет бойцы управления и первого взвода.
Конечно, здесь старались прежде всего снайперы. Они работали, как промысловики-охотники: те считали зверя по шкурам, эти — по флягам.
Но горечь утрат давала о себе знать все острее. Комсорг Данилов, прижимая к бедру раненую руку, снова осторожно вынимал из кармана гимнастерки слипшиеся от крови трогательно-родные серенькие книжечки. При виде их ныло сердце.
— Примите, товарищ политрук… Десять… У бойца Усиссо я искал. Все тело иссечено… Но билет у него. Перед рейдом я собирал взносы… Он расписывался…
На изможденном лице комсорга мелко подрагивали мышцы. Это был нервный тик — после рукопашного боя. Данилов сдавал политруку комсомольские билеты бойцов, погибших, как и лейтенант Лобода, от ножевых ударов.
— Я видел, товарищ политрук, как наши ребята… — Комсорг говорил замедленно, чтобы не заикаться. — Фашисты, они, сволочи, в касках. Но как дошло до финок — тут уж мы показали. Я помогал Зудину. Видел циркачей, но такого…
— Он же у рации! — напомнил политрук, потрясенный жестокой правдой рассказа. — Дежурит!
— Был, — подтвердил комсорг. — Но немцы ворвались в блиндаж… какое там дежурство? Если бы Зудин не владел ножом, им бы каюк. Да и рации тоже. А Шумейко… На глазах — слезы, а в глазах — пламя. Мал-мал, а не хуже Зудина. — И, помолчав, выдохнул: — Жаль Зудина…
— Он погиб?
— Ранен. В шею… Это ему все. Баста.
Политрук поспешил в блиндаж. Шумейко с припухшими глазами встретил его уныло:
— Вот! — и острым подбородком показал в затемненный угол. На лапнике, накрытый до пояса плащ-палаткой, лежал, постанывая, Зудин. Его уже перевязали куском простыни. Сквозь белый материал проступала кровь. Тут же, в каком-то метре от раненого, горбился труп фашиста. В потемках его можно было принять за груду тряпья.
Зудин с трудом шевелил челюстью:
— Приемник цел, товарищ политрук…
— Вань, помолчи… Тебе же нельзя, — слезливо просил Шумейко. И к политруку: — Вот. Приняли.
Сводка Совинформбюро была записана на мятом листке плотной бумаги. В ее складках темнела цементная пыль.
Политрук жадно пробежал глазами текст, разбирая корявые буквы. Безрадостное сообщение. Всюду — от Черного моря до Балтики — тяжелые оборонительные бои. Наши войска оставили Вильнюс. В Ленинграде пожары…
Читать дальше

![Борис Яроцкий - Агент полковника Артамонова [Роман]](/books/34095/boris-yarockij-agent-polkovnika-artamonova-roman-thumb.webp)