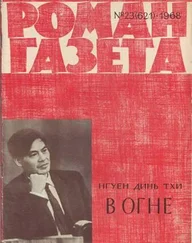– Запоет, - уверенно сказал Кан, - пообвыкнет немного и запоет. Нужно только найти что-нибудь мягкое, на что она могла бы сесть.
Один из разведчиков, известный балагур и весельчак, наклонился к птице:
– Что же тебе мягонькое найти, птаха? Кругом только одни осколки - то от бомб, то от снарядов! Попробуй-ка спеть на осколке от бомбы, как я иногда распеваю!…
– От твоего-то пения даже черта кондрашка хватит!
– Ничего, пел же я тогда нашему ансамблю, и ничего плохого, как видите, не случилось!
– Эту птицу назвали бонг-лау, - продолжал объяснять Кан, - потому, что она всегда садится на распускающиеся пушистые кисти дикого сахарного тростника. Дома мы капали на эти кисти смолой, и птицы прилипали к ним крыльями. Мы, естественно, оставляли у себя ту, которая поет лучше всех. А как поет высоко в небе свободная и вольная бонг-лау! Удивительные птицы! Чем выше поднимаются, тем звонче поют!
От Кана и Моана Лы многое узнал о лесных птицах. В Кхесанской долине прежде водилось очень много пернатых. Здесь жили и куропатки, искавшие пищу под кронами невысоких деревьев, и звонкие черные дрозды, и маленькие попугайчики, стаями летавшие в густом лесу, и многие другие птицы. А из лесов Лаоса сюда на ровные низинные участки прилетали парами павлины, и разведчики в первые дни еще могли, прячась в зарослях, наблюдать их танцы. Здесь было много и грифов, обычно обитавших на скалистых безлесных вершинах.
Примерно через неделю Кан снова отправился в полк на собрание своей партгруппы. Заодно на обратном пути он с несколькими бойцами хотел принести продовольствие.
Десять коммунистов разведвзвода сидели вокруг лампы на бамбуковом помосте и оживленно обменивались мнениями относительно тех бойцов, которых можно было рекомендовать для вступления в партию. В течение последних нескольких месяцев личный состав взвода выполнял ответственные боевые задания, и коммунистам теперь редко удавалось собраться вот так вместе. Окинув взглядом своих товарищей, Кан сразу заметил, как посуровели и осунулись их лица.
Кану уже давно было поручено подготовить Лы к вступлению в партию, и сейчас, когда его попросили выступить, он сказал очень кратко, что Лы вполне достоин быть членом партии. Неудовлетворенный таким выступлением, группарторг переспросил:
– Товарищ Кан, как все-таки вы характеризуете Лы?
– Хороший парень, - просто ответил Кан. - По-моему, его можно принять.
– Сколько бесед вы лично с ним провели? - не отставал группарторг.
– Извините, - пришлось сознаться Кану, - личных бесед на эту тему у меня с ним не было!
– Что, достается вам там? - пошутил кто-то.
– Да нет, не в этом дело, - запинаясь, сказал Кан. - Я ведь не шибко грамотный, а он парень образованный…
– Но он к вам с уважением относится? - снова спросил группарторг.
– Конечно…
Партгруппа пришла к единому мнению: комсомолец Лы - храбрый боец, однако ему часто мешают его школярство и наивная мечтательность. Кана, как старшего товарища, вновь обязали проводить с ним воспитательную работу.
Возвращаясь на НП, Кан раздумывал над тем, как он будет агитировать этого юношу, кончившего десятилетку и разбиравшегося во многих вещах куда лучше его самого, как правильно подойти к нему в этом случае. Кан вспомнил, что, когда он сам вступал в партию, его товарищи тоже не очень-то много с ним беседовали, но тем не менее он прекрасно понимал тогда, что его вступление в партию было чем-то само собою разумеющимся, поскольку в ее рядах он хотел бороться за право на жизнь, за право быть человеком.
Кан был круглым сиротой. В 1954 году, когда закончилась война Сопротивления, ему исполнилось одиннадцать лет. Он жил в услужении. Во время аграрной реформы ему выделили просторную комнату в помещичьем доме, но он был еще слишком мал, чтобы вести хозяйство, и ушел в пагоду в семью священника, который был членом партии и вел активную подпольную борьбу в годы Сопротивления. Когда же наступил мир, этот священник отказался от своего сана, женился на вдове партизанского командира (кстати, она тоже состояла в партии) и взял на воспитание Кана. Эти люди очень заботились о своем приемном сыне, а когда он вырос, дали ему рекомендацию в партию. На всю жизнь Кан запомнил слова своего приемного отца: «Партия - она за угнетенный класс стоит!» - которые он произнес во время беседы у водяной рисорушки, стоявшей неподалеку от пагоды. Кан хорошо понимал это, поскольку еще в раннем детстве испытал на собственной спине гнет эксплуатации.
Читать дальше