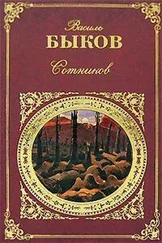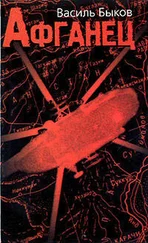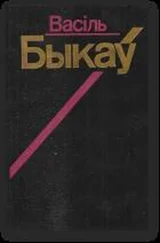Демидович подумал, что тем лучше для него, и напомнил об их встрече на Полоцкой дороге, и как они славно поговорили тогда о жизни. Все ж он хотел, не признаваясь сам себе, как-то задобрить этого человека, услышать его сочувствие и получить помощь.
Но Порфир не сильно спешил сочувствовать, разговор он будто бы поддерживал, но как-то неохотно, только часто вздыхал, поглядывая на огонь в грубке.
Демидович скупо, но убедительно, как ему казалось, описал положение на фронтах, в каком состоянии очутилась страна в результате этого внезапного нападения Гитлера, и как теперь трудно всем, и особенно тем, кто очутился на временно занятых фашистами территориях. О себе он еще не сказал и слова, но Порфир, когда он чуть умолк, неожиданно заметил, из-под лохматых бровей бросив глазом на гостя:
“Нынче вам трудно, это конечно. Но где же, человече, вы были тогда, когда всем трудно было?”
“Это когда?” — не понял Демидович.
“А тогда. Когда стонали все, слезы лили. Голодали и с голоду пухли, как в тридцать третьем”.
Ах, вот он о чем, с неудовольствием подумал Демидович, уж не за немецкую ли власть он? За оккупантов?.. Все ж теперь Демидович не хотел обострять разговор и довольно неопределенно ответил:
“Было, конечно, и тогда трудное. Индустриализацию проводили, напрягали все ресурсы. Нужно было”.
“Может, и нужно, — согласился Порфир. — Но зачем же было над народом издеваться? Над своими глумления творить?”
“Ну, это ты брось, дядька, какие глумления? Классовая борьба была, это правда. А глумиться над своими никто не хотел”.
“А то что, дав землю, назад отобрали — не глумление? Что за труд из колхоза ничего не давали — не глумление? И что обирали крестьян: и мясо, и молоко, и яйца, и шерсть? И шкуры со свиней? И лен, и бульбу? И еще деньги: налог, страховка, самообложение… А заем? Я, думаешь, почему три колоды пчел завел? Что чересчур мед люблю?.. За восемь лет я его ложки не попробовал. Чтоб оплатить все, купить и сдать — вон для чего. Притом, что в колхозе каждый день работал, в прошлом году триста семьдесят процентов выгнал. А что получил на них — полтора пуда костры. Ну как жить было?..”
Такого Демидович здесь не ожидал, этот оказался просто затаенной контрой. Мало, вишь ты, ему костры досталось? Будто другим доставалось больше! Или другие меньше платили-сдавали государству. Однако, гляди ты, сколько накопил обиды.
“Напрасно вы так, Порфир. Я считал вас сознательным колхозником, а вы?” — упрекнул Демидович.
“А я и есть сознательный! — поднял от грубки покрасневшее, обросшее седой щетиной лицо хозяин хаты. — Я самый сознательный в деревне. Всё выполнял. Жилы из себя тянул, а выполнял. Столько здесь мало кто стерпел, как я. Не хотел быть несознательным, должным государству, чтоб упрекали начальники”.
“Оно и понятно. У тебя ж, кажется, сын командир? Летчик?”
Порфир немного приумолк, как будто вспоминая что-то невеселое, и Демидович подумал, что о сыне обмолвился, видно, кстати. Но Порфир неожиданно сказал:
“В том-то и дело, что был сын командир, летчик. Да сплыл. Посадили летчика. Три года ни письма, ни привета. Может, и живого нет уже…”
Ах, вон оно что…
“Да-а”, — в раздумье промолвил Демидович, со злостью понимая, что и здесь обманулся. И тут не то! Возможно, этот Порфир переживает за сына, потому и такой ненастроенный. А он-то думал: разумный дядька, с ним можно будет поладить. А на кой черт такие разумные, что с них толку? Только молчат до поры, подлаживаются. Но вот же развязали языки, заговорили про то, о чем молчали годами.
Нет, здесь он не останется, у такого он просить приюта не будет. Такой его не спрячет, гляди, завтра же выдаст полиции. Может, уже и сам в полиции, или там сын, зять. Такие нам сегодня — враги, с необузданной злостью думал Демидович.
Немного погревшись в натопленной, да неласковой Порфировой хате, он сухо попрощался и пошел снова в ночь. Долго тащился гравийкой, набил ноги, хотелось спать, а приткнуться было негде. Опять же посыпался дождь, от которого не очень защищал его рыжий потертый плащик, и он все думал, куда б завернуть, где спрятаться от непогоды. Он и так несколько дней чувствовал себя довольно скверно, начало допекать нездоровье, иногда лихорадило, той ночью под дождем он основательно-таки простудился.
Около Бываловских хуторов свернул с гравийки и, не разбирая дороги, добрел до какой-то усадьбы. Стучать в окна уже не решился, увидел поодаль от хаты черную ночью пуню и через незакрытые ворота влез в нее. В углу как раз лежало немного прошлогодней, поточенной мышами соломы, он зашился в нее подле стены и, дрожа телом, задремал до утра.
Читать дальше