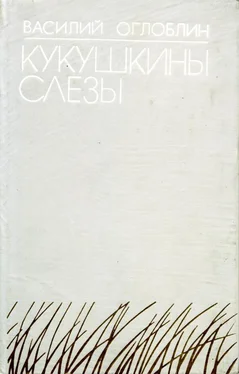— Усохла, стерва! — выругался незло. — Не хочет порадовать вкусной ягодкой, как в прежние лета, а и то пора уже, пора...
И опять вернулся к прежней мысли.
— Рази травички пойти покосить?
Подумал минуту и решительно шагнул к клуне, достал из-под стрехи литовку, провел желтым ногтем большого пальца по ржавому лезвию, вскинул косу на плечо.
— Пойду, покошу, разомнусь, етово-тово.
И травичка-то деду не нужна вовсе — ни коровенки захудалой, ни козленка во дворе — просто так, душу отвести. А травичку, как подсохнет, подберут люди добрые, да еще и спасибо скажут деду Тарасу. Спустился б дальний конец левады, выбрал сочную зеленую еланку и пошел косить: вжжжжик, вжжи-и-ик. А вокруг тишина, вспыхивают радугами росинки на высокой траве, машут метелками и перешептываются камыши в леваде, заливаются в камышах малиновым звоном очеретницы. Прошел от дремотного ручейка по буераку в гору два прокоса. На самой вершине буерака споткнулся словно — выдернул резко косу из травы, припал на правое колено, пошарил в валке и бережно вытянул сбритые под самый корешок кукушкины слезы.
— Ах ты, беда какая, — сказал испуганно и сожалеюще, — кукушкины слезы скосил, Наталкины цветики любимые. Ах и любила их покойница, ногой ступнуть на них боялась, а я возьми и скоси. Неладно, ах, как неладно...
Упали, рассыпались кукушкины слезы, и показалось Тарасу, что плачет цветок кроткими чистыми слезами.
— А и в самом деле, — умилился дед, — есть в них что-то жалостливое, душу бередящее.
И засосало под ложечкой у деда Тараса. Бросил косу на валок душистого разнотравья, сел на окосье, задумался крепко. Наталку покойницу, жену свою первую, как живую увидел: ходит с граблями, голыми икрами мелькает, не то сеном подсыхающим шуршит, не то спидницей цветастой. Покружилась, покружилась, стала напротив, смуглые руки на граблях сложила, смотрит укоризненно. «Скосил? — спрашивает дрожащим полушепотом. — Забыл меня? Эх, Тарас, Тарас...»
Хусточка полинялая заячьими ушками повязана. Покачала головой, грабли на плечо вскинула, икрами сверкнула и — только шум в некоси. Вздрогнул дед Тарас.
— Фу ты, словно и вправду, етово-тово, живая была, словно не лежит она одиннадцатый год в земелюшке. А ведь и то правда, забывать стал я Наталку, давно у нее на могилке не был, не беседовал с ней, покойной. Как же это, а? Забыл-то ее как, а?
Солнце уже припекать стало, а дед Тарас сидит, голову кучерявую седую уронил, думает, годы прожитые, словно книгу перелистывает: десять лет прожил он без Наталки, как пень в изножье у молодого леса выстоял, и над каждым годом — хмарная наволока, на одиннадцатом году тучи солнышко продырявило — Груня. Зашептал быстро:
— Может, лишний одиннадцатый-то, а? Может, не надо было с Груней-то, етово-тово, а?
И опять, как в явь, увидел дед Тарас ту лунную предосеннюю ночку на лугу, под вербами, в летнем таборе доярок, куда на лето призначила Оксана Лазаревна его сторожем. Из копешки свежего сена исходил пьянкий, дурманящий аромат чебреца и степной полыни, гроза надвигалась, в котлинке где-то тоскливо и одиноко плакал кулик. Может, кулик тот и виноват во всем: так растревожил он его одинокое стареющее сердце своим тоскливым бездомным плачем. А луна-пересмешница то закроется стыдливо рукавом, то опять подсматривает и лукаво ухмыляется. До сих пор еще не выветрились из густой дедовой бороды запахи чебреца и горько-полынный аромат незнакомых деду духов, истекающий из густых Груниных волос, до сих пор еще обжигают шершавые Грунины губы. Тогда и вошла она в его жизнь, Груня-то, горемычно вошла, запоздало. «Может, не надо было с Груней-то, а?» И опять оправдание для совести: не сбылась затаенная мечта его жизни, тридцать пять лет прожили, как один день, в любви и мире, а оставить после себя нечего, не дал бог детей, умерла Наталка, скоро умрет и он, и затеряется само его имя, как былинка в степи, во чистом поле. Ломкой, ненадежной соломинкой последней надежды и стаяв для него Груня. «А вдруг, — утешал он себя бессонными ночами, уважительно поглядывая на пышные белые груди спящей Груни, — а вдруг, етово-тово? Баба она еще ядреная, здоровая...»
— Теперя все! Конец! — сказал Тарас вслух, легко отделился от земли, выпрямился, сухой, строгий. — Все! Отцвели и отплакали кукушкины слезки.
Тряхнул седыми кудрями, размашисто зашагал от левады в гору, к хатам, да так быстро, что длинная дедова тень, перепрыгивая через канавки и цепляясь за кусты, едва поспевала за ним. В хату не пошел, косу не повесил бережно под стреху, а бросил зло на поленницу.
Читать дальше