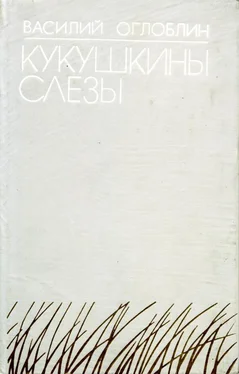Они отбили четыре диких атаки. В кожухах кипела вода. Мокрые все были, как черти, и пар от каждого клубами валил. Уже задрожали прошитые дождем ранние декабрьские сумерки, когда от околицы села, от леса, неистово воя и расшвыривая траками мокрую землю, на окопы батальона полезли четыре «тигра» и два «фердинанда». Головной «тигр» загорелся в пяти метрах от окопов — Коля Васильченко угостил его связкой гранат. Остальные шарахнулись назад и, искусно маневрируя, били по окопам прямой наводкой. Снаряды рвались на каждом метре. Земля вздыбилась. Стало темно. Снаряд разорвался позади пулеметной ячейки. Долгову перебило осколками обе ноги и оторвало правую руку. Позвал Колю Васильченко. Молчит. Подполз к нему. Готов парень. А «тигры» уже близко. Пополз, как ящерица, и упал в окоп. Кровь из ран хлещет, а над головой гусеницы грохочут — «тигр» окоп утюжит, земля стоном стонет, и машинное масло на лицо капает. Истек бы он там кровью, если бы не Вася Килин. Подполз он к нему, тоже раненый, но все же, скрипя зубами, перевязал ноги и обрубок руки и потащил. Дышит хрипло, свистяще, но тащит. До овражка, до спасения, было рукой подать, а Килин вдруг споткнулся, оседать как-то неловко стал и рухнул, раскинув руки. Ночь опустилась на степь ветреная, темная, страшная. Стихли последние голоса, и остался он один, умирающий, рядом с мертвыми. И страшно тогда ему стало. Человек силен, когда он не один, тогда он все может, а одному — каюк, пропадет один...
...Уже растаяли в душистых сумерках и дальние улочки, и лес, и левада, в темно-бархатном осевшем небе загорелись первые яркие звезды. Подстригая остроконечные кроны пирамидальных тополей, низко и величаво поплыла полная луна. На ярко освещенной сельской площади становилось оживленнее. В сельском ресторане «Дубок» весело вспыхнули люстры, их вздрагивающий, шевелящийся свет протянулся длинными полосами через всю площадь. Из распахнутых настежь окон вместе с потоками этого веселого света хлынула на площадь быстрая и тоже веселая музыка. Василий Тимофеевич непроизвольно вздохнул. Видели бы ребята, какая красивая жизнь течет в том селе, где они умерли, безусые, восемнадцатилетние. Коля Васильченко загорюнился перед тем боем. «Чего вздыхаешь, Коля, и с лица невесел?» — спросил он его. «Да вот думаю: бой скоро, — отвечает он, — а я ведь девчонки не поцеловал ни разу, убьют и не узнаю, что это за штука такая — поцелуй девичий..» И смеется, а глаза печальные.
Василий Тимофеевич пересел на край скамейки, подальше от яркого снопа света, закурил сигарету. А видения наплывали, наплывали.
...Как прошла та первая ночь — он не помнит. Начался жар, и был он все время в бреду. Очнулся, когда было уже совершенно светло. Мокрую землю стянуло морозом. Кругом — ни души. Врезались в память от того утра серые контуры хат под лесом, дымки из труб, столбиками подпирающие серое низкое небо. Лежал он где-то на том пшеничном поле, мимо которого недавно проехал, потому так рванулось к той земле сердце. Это была его земля, обильно политая его молодой горячей кровью. Сознание все реже и реже навещало его. Когда приходил в себя, удивлялся: все еще не умер, какой живучий. А когда очнулся в следующий раз, то был уже на телеге, рядом с мертвыми немцами. На околице села на его счастье распряглись лошади. Немец бросился поправлять упряжь. В это время к фургону подбежала женщина и протянула ему кружку молока. «Выпей, дытыночка моя ридненька, — заголосила она на всю улицу. — Ой, лышенько, що робыться!» Прежде чем взять ту кружку, он сунул женщине документы и прошептал: «Отдайте нашим, когда придут, так, мол, и так, скажите...» «Руэ, матка, вэг, вэг! — замахал вожжами немец. — Вэг!» [11] Руэ, матка, вэг! (нем.) — Молчи, мать, прочь!
Колеса заскрипели, и поехал он, поехал...
...В настоянном на тишине теплом воздухе по-прежнему дурманяще пахло жасмином. Откуда-то издалека доносилась протяжная и величественная украинская песня. Пели высокие грудные девичьи голоса. Где-то рядом щелкал соловей. И странно, ни обвораживающая ночь песня, ни замысловатые выщелкивания соловья не только не нарушали тишины, а еще сильнее, рельефнее подчеркивали ее, делали тишину зримей, осязаемой.
А воспоминания плыли, плыли, и отмахнуться от них не было сил. Во Львове, в лагере, пленный врач поляк Цеглинский сделал ему операцию, ампутировал обе ноги и обрубок руки. Отпиливал ноги обычной ножовкой, без наркоза. «Ты, панове, живучий, — удивлялся Цеглинский. — И откуда в тебе такая сила? Невидный, вроде, из себя, не богатырь? Другому на твоем месте давно был бы капут...» Долгим показался ему этот год в неволе, дольше всей прожитой жизни. Освободили их двадцатого января сорок пятого. Сидел он в карцере. Смерти ждал за неповиновение. Слышит шум за стенкой, возню, выстрелы. Понял, что это — конец. С жизнью стал прощаться. Прислушался — топот у самых дверей. И вдруг распахиваются железные двери карцера и на пороге малый такой, белобрысый парнишка, с автоматом и со звездой на ушанке вырос. «Выходи, папаша, свобода!» — «Какой я тебе папаша? — смеясь и плача, крикнул он ему. — Мне и двадцати еще нет!» И пополз к нему по-обезьяньи, в ногах стал тереться. Помрачнел тот, схватил в беремя, откуда и сила взялась в малом, и поволок на свет из вони и мрака. А потом его в Гродно, в особом отделе, молодой белобрысый лейтенантик предателем назвал. «А ну, расскажите, гражданин Долгов, как вы дошли до веселой жизни, родину предали и в плену оказались?» — Жидкие брови к переносью свел, глаза злые, ненавидящие. А он сидел напротив него на стуле, в руках была увесистая палка, с помощью которой передвигался по земле. Как случилось, до сих пор не поймет, только он при этих его словах посунулся чуть вперед и через стол потянул его уцелевшей рукой этой палкой между глаз — еле-еле водой отпоили. «Ну, все, — подумал, — пропал теперь, трибунал, офицера при исполнении». Да погодился на тот случай полковник. Он и спас. «Знайте, — крикнул он тому безусому лейтенантику, — с кем и как надо разговаривать. Вы еще войны и во сне не нюхали, а он — фронтовик, герой. Немедленно оформить документы и сопроводить домой». На том и дело кончилось. А не погодись полковник...
Читать дальше