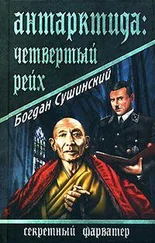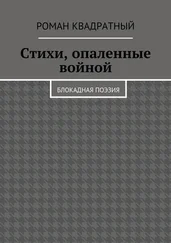В тот же день все недруги Ореста умолкли. Один из преподавателей, именно тот, что состряпал донос, дня через два попросту исчез. Поговаривали, что его увезли в НКВД. Остальные преподаватели и храмовые священники подчеркнуто вежливо склоняли голову перед семинарским иконописцем, пребывающим отныне, как им сказали в канцелярии, под патронатом не только ректора, но и самого митрополита. И бывал он только на тех лекциях и богослужениях, на которых ему самому хотелось бывать. К тому же ректор лично следил, чтобы семинарский библиотекарь предоставлял в распоряжение Гордаша все те книги с ликами святых и описанием икон, которые у него имелись.
В течение года Орест успел написать около сорока своих собственных икон и сотворить с десяток всевозможных копий древних мастеров. Боясь потерять такого талантливого и трудолюбивого иконописца, благодаря которому он успел сколотить себе целое состояние, архимандрит приставил к Гордашу соглядатаев, которые следили за каждым его шагом. При этом он позаботился, чтобы талантливый мастер не ограничивал себя скромными семинарскими трапезами и всевозможными постами, но «постил по велению души», а питался у жившей неподалеку «долгодевствующей» дочери священника, погибшего где-то в концлагере, которая охотно делила ложе не только с самим архимандритом, но и с его «личным иконописцем».
…Ложась с Орестом в постель, эта двадцатисемилетняя «православнокрещеная полуеврейка-полуполька» Софочка всякий раз мечтательно, на французский манер, «гаркавила»:
— Огест, запомните, Огест… Истинные святые девы — не те, на котогых вы молитесь в хгамах, а те, на котогых вы молитесь в постели. Ибо постель и есть тот священный хгам, в лоне котогого загождается все наше ггеховнопадшее человечество.
Поначалу Орест опасался, что архимандрит узнает об их интимной связи и приревнует, однако Софочка быстро успокоила его:
— Что вы, Огест? Агхимандгит понимает, что вы — талантливый мастег. А талантливому мастегу всегда нужны деньги и женщины, чтобы он не отвлекался на поиски одного и другого. Тем более что значительную часть тех больших денег, котогые он получает за ваши иконы, оседают в этом, то есть в моем, доме. Я не слишком откговенна с вами, Огест?
— Не слишком.
— Тогда я скажу вам больше. Вы тоже не стесняйтесь меня, ведите себя гаскованнее. В этой богоизбганной постели вы познаете такое блаженство, что никаким небесным гаем вас уже не соблазнить. А если вы еще и женитесь на мне… О, если вы еще и женитесь, Огест… Вы станете самым богатым и самым пгеуспевающим иконописцем, да, пожалуй, и светским художником, в этой стгане. Нет-нет, я сказала, не «советским», а «светским». Уж об этом мы — я и мои дгузья — позаботимся. И вгяд ли кто-либо удивится, если в скогом вгемени ваши кагтины и ваши иконы будут выставляться в Пагиже, Гиме, Нью-Йогке. Хотите взглянуть на «обнаженную Маху»?
— Где? — не понял Орест.
— Пгямо здесь, Огест, все пгямо здесь… — и, достав из потайной полочки секретера несколько снимков, разложила их перед Гордашем. На большинстве из них было изображение нагой Софы в самых невообразимых позах — под вуалью и без, на берегу моря, в постели, посреди лужайки… — У меня личный фотоггаф, Огест. Но фотоггафия — это всего лишь в семейный альбом. А вот это тело… — медленно провела она руками от бедер до груди, — оно достойно кисти Тициана и лучшего из залов Лувга. Вы согласны, Огест?
— Богоизбранное тело, — признал Гордаш.
— Но это еще не все. Я понимаю, что любая, пусть даже самая заманчивая натуга со вгеменем тускнеет. Поэтому вот вам снимки еще нескольких женщин, чьи тела могут заинтгиговать любого мастега кисти… И любая из них — на вашем холсте и в вашей постели. Я не из гевнивых, Огест, я — из тех женщин, что… для жизни.
…Из семинарии Орест бежал за месяц до окончания предпоследнего курса. Сбежал прямо из монастыря, куда их привели на торжественное богослужение по случаю прибытия митрополита. Не желая испытывать судьбу, Орест не решился пройти через ворота, где его неминуемо остановил бы привратник, выясняя, куда он направляется, а просто на глазах оторопевшего старца-монаха перемахнул через высокую ограду и побежал к берегу моря, которое всегда так манило его; к высокому степному мысу, врезающемуся в море, словно севший на мель корабль; к миру, в котором уже никто и никогда не способен будет заставить его стать на колени…
— Что там у тебя, Громов? — голос комбата был спокоен, и это спокойствие как-то сразу же передалось лейтенанту. Все выглядело так, словно ничего особенного не произошло: звонит комбат, интересуется, как дела. Обычная — теперь уже обычная — фронтовая жизнь. И, слушая Шелуденко, лейтенанту хотелось забыть, что и тот со своим гарнизоном тоже окружен, что все они уже отрезаны от армии многими километрами оккупированной территории и что отныне жизнь их пошла по смертельно уплотненному, невероятному по своей скоротечности фронтовому распорядку.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу