— Из тех, кто успел войти в деревню, выжили немногие. Нам удалось остаться в живых, потому что, когда началась стрельба, мы были еще в лесу и успели отступить.
После провала в Комсомольском Гелаев провел уцелевших партизан через перевалы в Грузию, там залег в долине Панкиси, населенной грузинскими чеченцами, кистами. Басаев, к которому теперь присоединился Сулейман, засел со своими партизанами в горах, где лечил начавшуюся гангрену ноги. Командиры пониже рангом, да и известные тоже, слишком верившие в свою счастливую звезду, брили бороды и прятались среди крестьян в аулах и станицах. Один за другим они попадали в российские засады или тюрьмы, выданные доносчиками, соблазнившимися наградой или запуганными. Чеченская партизанская армия была разбита.
— То, что нам удалось выжить — настоящее чудо. И уж совсем не знаю, как назвать то, что нам удалось восстановить отряды, снова собрать тысячи людей, взять под контроль ситуацию, — продолжал Сулейман свой рассказ. — Конечно, у нас недостаточно сил, чтобы оказать сопротивление россиянам, но их достаточно для того, чтобы не бояться и надеяться, что мы продержимся.
Мне казалось, что партизан, человек, решивший продолжать борьбу, должен с неким превосходством, если не с презрением, смотреть на тех, кто воевать не хотел, и, хоть не смирялся с оккупацией, не пытался ей активно противостоять. Сулейман, однако, относился к Аслану и его друзьям как к добрым знакомым, людям других интересов и занятий. Да и они, ну, может, за исключением Аслана, ни в чем не ощущали себя ущербными. Они пришли послушать его рассказ не из потребности пережить пафосное воодушевление, а из простого любопытства, возможно из желания прогнать от себя мысль о том, что они расточительно тратят жизнь на поиски способа, как убить такое бесценное, в общем-то, время.
Мохаммед родился в горах, был потомков одного из четырех благороднейших родов из Ведено. Когда-то только представители этих родов имели право жить в ауле. Остальные — купцы, служба, ремесленники, приезжие, нищие — обязаны были покидать деревню до наступления темноты. Еще дед Мохаммеда имел обыкновение сиживать на камне и разглядывать идущих в аул людей — кто они, откуда родом, чего хотят. Дед часто говорил, что последние настоящие чеченцы погибли во время войны с российскими большевиками почти сто лет назад.
У Мохаммеда было строгое, светлое лицо, черные глаза и орлиный нос, как у кавказских джигитов на гравюрах девятнадцатого века. Не пил водку, не курил, не ругался, даже громко не смеялся, изредка только позволяя себе улыбаться. Не повышал голос, говорил серьезно, сдержанно. Все делал, как положено. Следил, чтобы ни словом, ни жестом не уронить достоинства.
Достоинство, честь и верность родовым традициям были в жизни его единственной мотивацией. Он должен был жить как его дед, деревенский мудрец, и отец, ученый историк. Он не только не имел права нанести ущерб чести рода, но обязан был заслужить уважение сородичей. В соответствии с обычаем знал имена своих предков до девятого колена. А также все великие дела, которыми они прославились. Кодекс, которому он был верен, отбирал право называться чеченцем у того, кто этого не знал. Некоторое высокомерное превосходство явно чувствовалось в его отношении к коллегам, которые ни во что не ставили не только его, но и свое собственное происхождение. За это он их особенно осуждал.
— Только зная, кем были твои предки, узнаешь, кто ты сам такой, — говорил Мохаммед. — А если не узнаешь, кто ты, так и останешься никем.
Мохаммед старался быть точен в словах и скуп — как того требует традиция — в выражениях чувств. Экзальтация была чем-то непристойным, недостойным мужчины. Чеченца. Так же, как безответственность. А именно безответственностью считал он, также как его отец, объявление войны за независимость, с самого начала обреченной на провал. Мохаммед не воевал. Он считал войну делом чуждым, преступным, грязным, неблагородным. Как человек чести не хотел и не мог иметь с этим ничего общего.
А теперь вдруг, неожиданно для самого себя, испытал ненависть.
— Ненавижу все российское. Я не готов пока убивать, или гибнуть, не знаю, буду ли когда-нибудь готов. Но ненавижу всем сердцем, — говорил он вечерами, не сводя глаз с далеких вершин Кавказа, уверяя, что нигде больше не мог бы жить, что его место в долине Ведено и только там. Человек не из его мира, я вполне годился на роль поверенного. Отцу он никогда бы не осмелился рассказать о своих чувствах. — Слышать больше не могу, как они бессовестно врут по телевизору. Влезли в мой дом, переворачивают все вверх ногами, смеются над тем, во что я верю, оскверняют все, что для нас свято. Я бы вынес мысль, что нас убивают, что хотят нас всех уничтожить. Но не могу терпеть этой надменности, наглости, с которой они врут людям в глаза, уверенности, что им все позволено.
Читать дальше


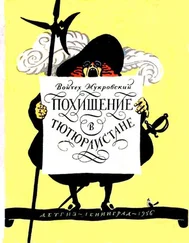



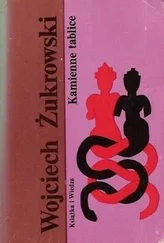

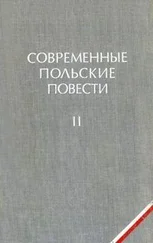

![Войцех Козлович - Сыновья полков [Сборник рассказов]](/books/407375/vojceh-kozlovich-synovya-polkov-sbornik-rasskazov-thumb.webp)
