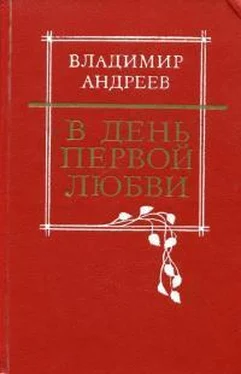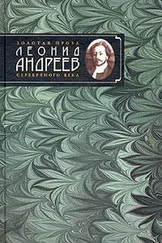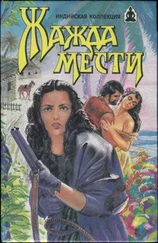Голос у Сони мягкий, немного с хрипотцой, как после простуды. И что мне особенно нравилось в ее голосе — это нотки таинственной задумчивости. Иногда казалось, что Соня разговаривает со мной, а думает о чем-то другом. О чем она думает? Постоянно думает.
— Никаких дел у меня нет. Приду в землянку и лягу.
Соня промолчала, не прореагировала на сообщение.
В голове у меня мелькнула смелая мысль — взять Соню под руку. Когда-то до войны я видел, кавалеры именно таким образом провожали девушек. Но сделать теперь то же самое я не решился — нет повода. Я почему-то считал, что для этого обязательно должен быть повод: какая-нибудь глубокая канава или крутой спуск; я, проявив находчивость, подаю руку, чтобы Соне было удобнее идти, а потом эту руку не отпускаю. Все выходило само собой, вежливо, достойно…
К моему огорчению, ни канав, ни крутых спусков на пути не попадалось, тропинка была торная, и помощи Соне не требовалось.
А то вдруг приходило в голову совсем сумасшедшее: обнять Соню, подойти сбоку этак крадучись и обнять за плечи — будь что будет, семь бед — один ответ… Вариант этот мелькал в голове как фантазия, которую я отсек мгновенно: с Соней так нельзя, можно навсегда испортить отношения, нет, нет, это обидит ее, и в каком свете я буду выглядеть, чего будут стоить мои чувства.
— А куда ваша подруга делась? Сидела рядом и вдруг исчезла, — сказал я, чтобы что-то сказать.
— Шура, что ли?
— Ну да, Шура.
— К связистам ушла.
— Зачем это? Так поздно…
— Жених у нее там.
— Жених?
— Почему вы удивляетесь?
— Да так, — ответил я, придав голосу равнодушный оттенок. — Почему же он в кино не пришел?
— Не мог. Занят.
Тропинка делала поворот, слева и справа ее обступали кусты, и когда мы проходили среди них, я коснулся руки Сони, но она отвела ее.
— Вот я и дома.
— Уже пришли? Как быстро.
Оба остановились. Вдали среди лесной прогалины виднелись палатки санчасти. Соня смотрела в ту сторону, видимо из вежливости не покинув меня сразу.
— Не холодно в палатках?
— Что вы! Ни капельки!
— Хорошие стоят дни.
— Очень хорошие.
— А на передовой в такие дни тяжко…
Больше я не мог выдавить из себя ни слова. Я стоял и смотрел на темный профиль Сони, и меня душила какая-то неведомая ранее нежность. Но я боялся проявить ее. Минуту стояли молча.
— До свидания. Спасибо за компанию, — сказала Соня и шагнула вперед, к палаткам.
Я помахал ей вслед, потом повернулся и напрямик, минуя тропинки, направился к своей землянке.
Нагретые за день ветки елок кололи мои щеки. Тепло чувствовалось и под ногами, и я вообразил, как в этот час оживают полузавядшие колокольчики, которые я видел здесь днем. В отдалении глухо рокотал движок. В стороне где-то скользнул по деревьям свет автомобильных фар. Я шел и думал о Соне… Ничего не было сказано, ничего не произошло между нами, но на душе у меня было светло: все-таки повидал ее, поговорил…
— Ну как кино? Понравилось? — спросил Штыкалов при моем появлении в землянке.
— Мура, — произнес я зло.
— Мура? — Штыкалов усмехнулся. — Хорошо, что я не пошел. А ведь, знаешь, собирался.
— Хорошо сделал, что не пошел, — добавил я, подумав, что мне теперь ни одно кино не придется по душе, пока Соня не изменит своего отношения.
— Чем занимался? Почему не спишь? — спросил я после паузы.
— Писал письма, — признался Штыкалов. — Во все концы настрочил.
«Во все концы» — это значит невесте, девушке Наташе, с которой Штыкалов переписывается с начала войны. Высокая, непостижимая для меня любовь между ними, о которой Штыкалов никогда не говорит, но я видел, как меняется, светлеет его лицо после каждого письма от Наташи.
— Мне тоже надо написать матери, — сказал я и замолк.
В груди у меня заскребло: почему мне так не везет? В отпуске отказали. И Соня меня не замечает…
3
Странное состояние испытывал я на этот раз на переформировке: там, на передовой, некогда было вздохнуть — обстрелы, бомбежки, развороченные окопы и блиндажи… А здесь, в тылу, отоспался, почистился, и вот тебе — подкатила скука. С утра до вечера занятия: тактика, огневая, уставы… Все эти пробежки на бугор, и строевой шаг, которым ходить никто не умеет, и разные: «Разрешите обратиться… Разрешите пройти…» — все это вызывало раздражение. Тут еще не дающие покоя мысли о Соне, и сама она рядом… Мне бывало достаточно увидеть ее издали или обмолвиться с ней словом, чтобы я занервничал и потом целый вечер возбужденно фантазировал, лежа на топчане. Какие только картины не представлялись мне: и поездка с Соней в мой родной город — эту картину я обкатывал во всевозможных вариантах, уточняя, добавляя разные новые краски, тут и встреча с мамой, и прогулки по набережной, где я веду Соню под руку, и многое, многое другое, отчего кружилась голова. Каждый раз я пытался представить ее лицо, то серьезное и грустное, то освещенное улыбкой, и сам не понимал в такие моменты, что со мной происходило: хотелось сделать что-то из ряда вон выходящее, что-то совершить, чтобы Соня окончательно поняла, что я за человек.
Читать дальше