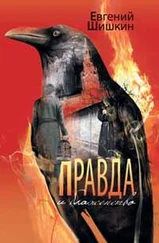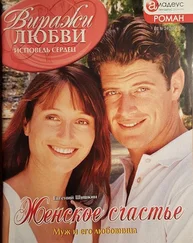Придет туда мать… Тогда-то он и услышит от нее, о чем она говорила в повторяющемся сне, под иконами. Он и там станет пред ней на колени, прижмется к ее груди, будет внимать каждому ее слову. Мать будет гладить его по голове и неподражаемо называть «Фединька»… Максим-гармонист появится там и, может, сыграет еще на двухрядке. Появится Дарья: глаза веселые, зеленые. Там сойдется она со своей дочкой Катькой.
Но пуще всего Федор будет ждать, при этом с мольбой оттягивая встречу, — свою Ольгу. Ведь там-то он сможет обнять ее, понести на руках и все слова, которые для нее готовил, сполна выскажет. Там не будет для них ни помехи, ни разлучения.
Светлая слеза катилась по виску Федора, окрыленного тамошним бессмертием.
Палату в очередной раз навестил Малышев. Он опять навязывал Федору разговор о доме, выведывал: что да как? А в предыдущие дни к Федору с теми же вопросами подбивалась старенькая санитарка, медовым тоном увещевала, что «родное, материно крыло самое теплое». «Неспроста копают», — подумал Федор.
— Домой торопитесь списать? — резко спросил он у Малышева.
— Ну что ты, Завьялов! Это мы еще погодим. После госпиталя думаю тебя в санаторий отправить. Не возражаешь?
— Мне без разницы, — холодно ответил Федор. — Если выпишете, сопровождающих не надо. Сам доберусь.
— Не сомневаюсь, — согласился Малышев. — Свет не без добрых людей.
Душевного общения и на этот раз не получалось. Письмо, вторично захваченное для Федора, Малышев передать не решался. «Не время ему для таких писем», — думал он, изучая еще более похудевшее и обсуровевшее лицо Федора. Нечаянно на ум Малышеву пришла жутковатая ситуация: вдруг бы его так же — оставили бы без рук, без ног. Он попробовал это представить и не смог представить. Разум упирался сделать это. Понятно было только одно, что, окажись он на месте Завьялова, пожалуй, своей жене, с которой прожил добрый десяток лет, показаться не торопился бы. Навечно ее в сестру милосердия превратить… «А Завьялова не жена ждет — невеста! У них с ней еще и жизни-то не было».
Федор ни о чем подобном сейчас не думал. От Малышева крепко и вкусно пахло табаком — вот что его больше всего волновало. Он едва удерживал себя от просьбы: «Смилуйся, товарищ капитан! Дай закурить. Умираю как охота! Хоть напоследочек…»
В тот момент, когда он хотел было произнести эту заветную просьбу, Малышев поднялся со стула. Что-то еще упомянул про санаторий и удалился. Федор проводил его сердитым взглядом.
Продолжать лечение в госпитале, ехать куда-то в санаторий или пробираться до дому — об этом Федор задумывался вскользь, редко. Он также редко задумывался о письме домой. По какой-то странности, ему казалось, что матери про него все известно и все ею понято. Писать Ольге — опять же незачем. Он ей здесь исповедовался; она и так все время с ним…
Незаметно для себя, исподволь, день ото дня Федор все меньше и меньше думал о будущем, о тех доподлинных земных днях, которые могли продлить его судьбу и вплести ее в судьбу близких. Ему безбоязненно легко и утешительно думалось о внеземном будущем. И это запредельное будущее все больше и больше вытесняло действительное. Он становился как древний старик, который смирился с исчерпанностью жизни. Он не задумывался и даже не подозревал о том, что жизнь человека кончается тогда, когда он перестает мечтать о земном завтра.
Ночью Федор не спал. Ночь выдалась душной. Окно палаты было отворено настежь, но воздух и по темной поре оставался застойно-сухим, как в день.
Заполночь за окном зашелестел старый вяз. Подул ветер. Он не умерил духоты, но почувствовалось, что где-то собирается гроза. Скоро стал доноситься глухой рокот дальнего грома. В небе, краешек которого видел Федор в перспективе, за листвой старого вяза, розовато вспыхивали на толстых тучах отсветы молний. Сумрак палаты от этих сполохов почти не колебался, — сине-белесый сумрак короткой летней ночи.
Больше ждать нечего. Федор приподнял голову, пристально посмотрел на Зеленина. Кажется, спит. Но если даже не спит, вряд ли помешает. Зеленин почти безъязыкий и неподвижный, может лишь чего-то промычать или указать рукой, которая не потеряла координации движений. В любом случае он не наделает препятственного шуму.
Федор повернулся на бок, головой отбоднул подушку в сторону, зубами вытащил из-под матраса угол застеленной простыни. Слюной Федор размочил край простыни, разжевал его и перегрыз окаемный шов. Прижимая простынь культей и плечом, он стал зубами отрывать затверделую простроченную кромку. Материал рвался узкой подходящей лентой, но понемногу и трескуче. В гулкой ночной палате треск материала казался далеко слышим. После каждого рывка Федор выжидательно прислушивался и косился на рифленую муть дверного стекла, через которую из коридора струился припущенный «ночной» свет. Шагов из коридора не доносилось. Свет оттуда, не затененный фигурой дежурной медсестры, рассеянно лежал на полу палаты. Пока все было тихо. Лишь ветер редким потоком тревожил широкие, в зазубринах листы старого вяза. Федор старался подгадать так, чтобы под этот шум рвать простынь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу