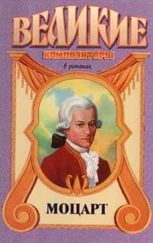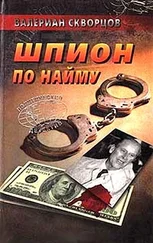Шилов встал со стула, со злостью скомкал газету и, поглядывая исподлобья на мать, с силой швырнул к порогу.
— Чепуха! — с нервозностью проговорил он и, закрыв руками лицо, тяжело опустился на стул. — Меч сечет и повинную голову. Твой дезертир никого не убивал. А на моей совести — трое. Пойми это и перестань ребячиться.
— А кто знает, что ты убивал? — в растерянности спросила мать.
— Узнать не трудно, — вздыхая, ответил Шилов. — Стоит объявиться и попасть в газету, как сразу же из Устюга полетят звонки в прокуратуру.
Татьяна Федоровна расплакалась и не стала больше посылать сына с повинной к Седякину. Наконец-то она взяла в толк, что сын не может поступить так, как поступил его воронежский собрат. Выйти из подвала — значило признаться в убийстве старика Евсея. Так что последняя попытка снять с себя бремя укрывательства закончилась для Татьяны Федоровны полным провалом.
Шилову тоже не стало легче от того, что он не единственный среди своего поколения дезертир, что у него есть сотоварищи по несчастью. Наоборот, случай с воронежским дезертиром омрачил Шилова и напомнил ему худшие времена жизни, когда он поселился в подвале матери. Более того, его пугала старая мать, на которую он когда-то опирался, как нищий на палку, и чувствовал себя в ее доме, как у Христа за пазухой. Отныне эта палка переломилась, и причина тому — старость матери. Шилов где-то читал, что одним старость прибавляет мудрости, других лишает рассудка. С этим нельзя не согласиться. Иногда Татьяна Федоровна впадала в детство и молола сыну такую несуразицу, что волосы становились дыбом. Трудно было поверить, что эта женщина более двадцати лет водила за нос всю опытную станцию. И не только опытную. Околпачила начальника училища. Не раз втирала очки милиции, особенно Данилычу и Леушеву, и заводила в тупик следствие. Теперь Шилов считал врагом номер один собственную мать и боялся, как бы она не погубила его своей тупостью. Недаром говорят: старый, что малый. Того и жди — проболтается…
Татьяна Федоровна в самом деле однажды проболталась. И кому? Тьфу! Попу… на исповеди… Правда, Шилов кровью попа рук не запятнал. Но тут помог случай — удалось загрести жар чужими руками, а самому остаться в тени. Запятнали… незадачливые грабители.
Второго августа, в Ильин день, Шилов решил заглянуть в Кошкинский лес и узнать, не пошел ли в рост первый слой "соленых" грибов. Положив в карман сетку, нож, он взял с собой черные очки и вышел на задворки.
— Не ходи долго, дитятко, — стоя на крыльце, бросила ему вдогонку Татьяна Федоровна. — Сегодня праздник. Скоро обедать будем.
— Ладно, мама. Я на часик.
Проводив сына, мать разостлала на полу старый ватник, положила подушку и прилегла отдохнуть.
Не успела она сомкнуть веки, как кто-то сильно застучал в дверь.
— Кого там лешак принес? — проворчала Татьяна Федоровна, поднялась с полу и, опираясь на клюшку, поковыляла в сени.
— Открой, Татьяна! — послышалось с крыльца. — Это я, отец Григорий.
Открыв дверь, она увидела на крыльце туровецкого попика Григория, горького пьяницу и любителя тайных попоек в компании молодых людей. Татьяна Федоровна не раз у него причащалась, подавала листки на поминовение усопших и даже исповедовалась. Синий картофелиной нос Григория распух и казался больше того, который запомнился Татьяне Федоровне, когда она последний раз была в церкви. Маленькие подвижные глазки, затуманенные хмельком, плутовато выглядывали из-под черной поношенной шляпы.
— Проходи, батюшка, проходи родименький. Милости просим. Спасибо, что не забываешь нас, — с низким поклоном встретила его Татьяна Федоровна и поцеловала ему пухленькую ручку.
Отец Григорий вслед за хозяйкой зашел в горницу. Остановился у порога, снял шляпу и перекрестил нос. Потом присел у стола.
— Ну-с, как поживаешь, Татьяна? — положив руку на стол и барабаня пальцами по выскобленной добела столешнице, спросил он у хозяйки, оглядывая горницу. — Небось, грехов много накопила за душой?
— Как же, батюшка, как же, родименький, нынче без грехов? Живем, грешим, страдаем. И что страшно? Грешим и не думаем о спасении души…
— А ты, Татьяна, не бойся, — лукаво сощурился на нее священник, — греши, сколько угодно, да не страдай понапрасну.
— Как не страдать-то, батюшка?
— Очень просто. Почаще кайся перед нашим господом богом. Господь милостив. Простит все твои грехи.
— А и верно говоришь, батюшка, — поддержала его хозяйка. — Давненько я не исповедовалась. И рада бы каяться, да ума не приложу, как добраться до Туровца. Силушки-то у меня больше нету. Убогая стала, некудышняя.
Читать дальше