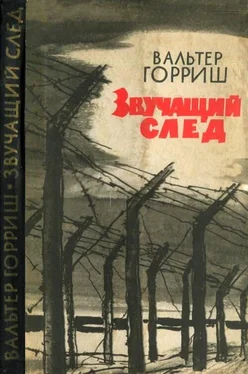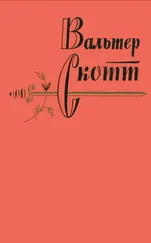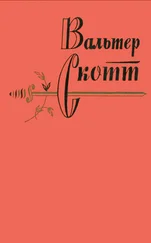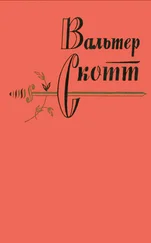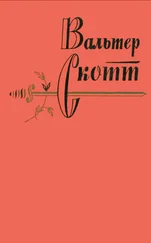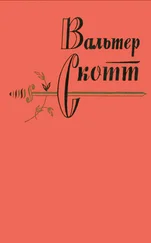Невдалеке от низины, в которой исчез Ахим, ветер донес до моего слуха легкое покашливание.
Передо мной тянулась белая песчаная пустыня. Я решил добраться до гребня ближайшей дюны. Запустив пальцы в песок, я медленно, сантиметр за сантиметром, полз вперед. В конце концов я достиг цели.
— Сколько тебе могут дать? — услышал я внизу голос Ахима.
— В лучшем случае пять лет, — ответил Мюллер.
— А остальным?
Романтического подъема, побудившего меня к этой ночной вылазке, как не бывало. Огни Пор-Бу казались мне уже не тюльпанами, а глазами хищных зверей; я глядел на них, и мне хотелось бороться с чувством, которое парализовало мое тело и душу.
Я вдруг очутился в гигантской западне. Утыканные шипами стены и бетонный потолок неумолимо надвигались на меня. Если бы Мюллер громко пролаял своим, обычным злым голосом, которым он всегда читал мне рацеи, имена людей и ожидающие их наказания, давящий меня мрак мог бы рассеяться. Но он продолжал перечислять их, говоря тихим шепотом, — как море, ветер и песчинки вокруг меня.
— Герлаха, — говорил Мюллер, — я оцениваю в десять лет, Зиберта — в три года. Если они закатят ему больше, он погиб.
— А как обстоит дело с Джеки? — перебил его Ахим.
— Часть интернированных евреев отправляют в Африку, — пояснил Мюллер. — Если Джеки хочет туда попасть, он должен поладить с Розенбергом, старшим по его бараку.
«Ага, — подумал я. — Джеки — тот, что возил на себе старого негодяя, охотившегося за мной». Я чуть было не вскочил. «Ахим, Мюллер, Гроте, Юнгенс, — хотелось мне им сказать, — пойдемте, подожжем еврейский барак. А потом отправляйтесь домой и скажите: мы не хотим, чтобы нас засадили в тюрьму вместо евреев. Что же это — такое, мы должны подставлять свою голову, а они сядут на корабль — и поминай как звали!» Но я словно окаменел. Теперь говорил Гроте.
— Вы ведь сами знаете — если меня сцапают, мне не сносить головы, — сказал он и принялся вслед за Мюллером сыпать именами и сроками.
Кое-кого из названных я знал. Например, Фрезе. Это был человек лет пятидесяти, с короткими мозолистыми пальцами и обвислой кожей на затылке, — похожий на ломовую лошадь с упрямым взглядом. Он пообещал задать мне трепку, когда я со своим котлом хотел пролезть впереди него в кухне. Роде — худощавый двадцатилетний парень с белокурыми волосами и красным лицом. Недавно я так долго и с таким благоговением смотрел на его рот, из которого торчала сигарета, что он отдал мне окурок. Эти двое, а также другие реально существовали. Захоти я, я мог бы каждого из них ткнуть пальцем б грудь; они бы, конечно, сказали: «Рехнулся ты, что ли?» Они состояли из плоти и крови, а не из бездушных букв, как имена осужденных, которые я часто видел в газетах и по которым скользил безучастным взглядом.
Над затихшими дюнами забрезжил слабый свет. Взошла луна, и мне пора было возвращаться. Я думал о Гроте. Когда он не спал, то сидел на своем чемодане и искусно вырезал из кости затейливые шахматные фигурки со звериными и человечьими головами. Говорил он мало и почти не привлекал к себе внимания, как, впрочем, и два скандинава, матросы, которые все дни напролет сидели в своем углу и ловили кусавших их блох. Гроте тоже все время что-то искал, правда не в своей одежде. Я не могу сказать, что именно он высматривал. Быть может, какое-нибудь новое, никем еще не замеченное лицо, скорее всего — модель для своих изделий.
Теперь, возвращаясь в барак в каком-то исступленном спокойствии, я вспоминал длинные руки Гроте, державшие блестящую фигурку, представлял себе, с каким благоговением, уставившись взглядом в стенку, гладил он свое детище — так прикасаются к хрупкому ребенку или к дорогому фарфору. Я часто смотрел на это с улыбкой. Улыбка относилась к самому Гроте. Теперь, когда я знал, что ему предстоит, меня пробирала дрожь. Чудесным рукам, умеющим придать своим творениям живое выражение и форму, суждено стать мертвыми костями. Ночь небытия спустится на чуть раскосые глаза, которые испытующе вглядываются в каждое лицо, стремясь прочесть то, что оно скрывает.
Прежде чем войти в барак, я оглянулся. Один из троих приближался размеренным шагом. За его спиной светился медный лик луны. Я проворно скользнул на свою циновку и вскоре услыхал тяжелое дыхание Гроте. Он ощупью пробирался к своему месту.
Немного спустя вернулись Ахим и Мюллер. В бараке наступила тишина.
В следующие ночи я еще не раз подслушивал беседы этих троих. И всякий раз, лежа плашмя на песке, стремясь уловить каждое слово, я проклинал свое любопытство, вносившее путаницу в мои мысли и лишавшее меня сна. Но, с другой стороны, подслушивая, я открывал для себя новый, неведомый мне мир — многообразный, полный неожиданностей, удивительный и манящий. Мир, в котором французский крестьянин ночью прокрадывается в дюны, чтобы через ограду перебросить немецким интернированным продукты и медикаменты. Мир, в котором француз получает задание вызволить из лагеря немцев, подвергающихся наибольшей опасности, — сыновей того народа, который попирал своим сапогом французские города и деревни. Мне этот мир казался перевернутым вверх ногами. Я узнал также, что подпольную лагерную организацию возглавляет Ахим, строгий судья, подвергающий каждого из своих людей тщательной проверке. Так же неумолимо распределял он продукты, которые приносил крестьянин. Они предназначались только больным и особо истощенным. И я получил свою долю, несмотря на то что эти люди должны были считать меня врагом.
Читать дальше