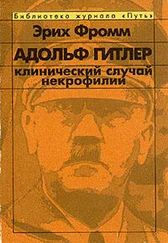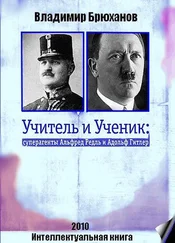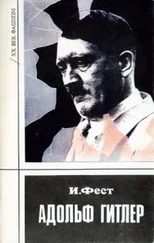— Буду счастлива, если бельгийцы поймут все правильно, — ответила Марина и попросила остановиться, — Вот и все, — сказала, выходя из машины. Достала деньги, протянул шоферу. — Благодарю вас, честный бельгиец. Возьмите деньги.
— Что вы? Что вы? — энергично запротестовал тот, отстраняя ее руку с зажатой ассигнацией, — Я буду считать себя последним человеком, если возьму у вас деньги, — Посмотрел на нее восхищенным взглядом, полным благодарной признательности, сказал душевно: — Я буду молиться за вас, мадам. Да хранит вас Господь.
Он осторожно закрыл дверцу машины, на прощанье улыбнулся Марине и повернул в Брюссель.
* * *
Барон фон Нагель 8 декабря 1941 года с самого утра находился в плохом расположении духа. Состояние необъяснимой подавленности, предчувствие чего-то неприятного тоскливо сжимало его сердце и сковывало разум. Работа у него в этот день явно не ладилась, все, как говорится, валилось из рук. Интерес к документам, докладам, телефонным звонкам, сотрудникам и посетителям гестапо пробивался в его сознание заторможенно и, если он еще что-то делал, то делал через силу, одолеваемый желанием скорее покончить с возникшим вопросом, уйти в себя. Такое происходило с ним нечасто; но если уж случалось, то было верным предзнаменованием чего-то недоброго. Он это знал и усилием воли пытался выйти из сковывавшей его депрессии, силой логики убедить себя, свой разум в необходимости встряхнуться, но все было напрасным. Какая-то сверхестественная сила повергла его в тревожное ожидание и, уже не сопротивляясь этой силе, он пытался хотя бы отгадать, что уготовила и притаила для него судьба, но как ни старался заглянуть в будущее сегодняшнего дня, какие предположения не допускал, ответа не находил и от этого еще больше расстраивался. День клонился к 14 часам, времени обеда, а он все пребывал в состоянии необъяснимого беспокойства, настороженно прислушивался к собственному внутреннему голосу, подавшему неразгаданные сигналы тревоги.
По заведенному порядку, в 14 часов к нему в кабинет вкатывали богато сервированный обеденный столик и он принимался за обед, прерывать который никто не имел права. Прием сотрудников гестапо и посетителей, какое бы положение они не занимали, какими бы званиями не обладали, на это время прекращался. Все телефоны, связывавшие его с подразделениями гестапо в Бельгии, переключались на адъютанта, за исключением тех, которые выходили в Берлин на высокое начальство.
Он сел за обеденный стол, заложил конец белой накрахмаленной салфетки за воротник, потянул носом запахи специально для него приготовленных блюд и остался доволен стараниями повара. Он любил аппетитно покушать, посидеть за красиво накрытым столом, помечтать о будущем, вспомнить былое. В такие моменты все служебные заботы отодвигались на задний план, и он с наслаждением предавался чревоугодию. Однако сегодня чувство тревожного ожидания не проходило даже за столом, и, чтобы избавиться от него или хотя бы притупить его саднящую боль, он налил французский коньяк в хрустальную рюмку, поднял на уровень глаз, пристально посмотрел на янтарного цвета напиток, понюхал с явным удовольствием, но не выпил. «Черт возьми, а ведь совсем неплохо устроился барон фон Нагель» — подумал он самодовольно, пытаясь сбросить со своих плеч ощущение тревоги, впадая в свое обычное состояние отрешенного блаженства за обеденным столом. Взгляд его переместился с рюмки коньяку на портрет Гитлера, висевший на стене. Обращаясь к нему, Нагель провозгласил: «Ваше здоровье, мой фюрер!», выпил коньяк мелкими глотками с наслаждением человека, понимающего толк в винах, и сидел с закрытыми от удовольствия глазами, сдерживая дыхание, чтобы не выдохнуть тончайший аромат, подольше сохранить ощущение божественного напитка.
Сытный и вкусный обед, долголетней выдержки спиртное, вскоре подняли его настроение, вконец развеяли подавленность, обратили в область размышлений о жизни в Брюсселе. И жизнь эта теперь казалась ему не так уж сложной, сопротивление оккупационному режиму не столь опасным и все в Бельгии виделось несколько в ином, благоприятном свете. Степень переоценки Нагелем положения в Бельгии и своего собственного возрастала пропорционально выпитому коньяку и, вероятно, жизнь в Брюсселе стала бы вырисовываться в его воображении полным благополучием, а отношения бельгийцев с оккупационной администрацией совершенно гармоничными, если бы установленный им порядок обеда не нарушил адъютант, гауптштурмфюрер СС Зауэр.
Читать дальше