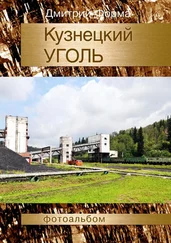Бардин молчал. Тянуло предутренним ветром, студено-сырым уже по-сентябрьски. Пахло махорочным дымом (ветер дул от Бабкина), горьковато-жестким. В дыме этом было для Егора Ивановича нечто тоскливое, что лежало у сердца и тревожило.
— Я спрашиваю, Брест?..
— Брест Брестом, а это иное, — ответил Бардин.
— Плохо дело.
— Это почему же?
— Понимать нам головой, Егор Иванович, а воевать сердцем… У головы — шея. Ей, голове, легко поворачиваться. Хочешь, налево, а хочешь, направо. Есть такие, что могут на сто восемьдесят… Р-р-аз — и глаза на затылке. А вот попробуй поверни сердце…
Бардин засмеялся.
— Нет у сердца шеи?
— Природа не дала, Егор Иванович.
Бабкин затянулся, и огонь самокрутки осветил его лицо, неожиданно курносое, в резких и грубых морщинах, лицо старого крестьянина.
— Чую, гореть мне в адовом пекле бессонницы! Да только ли мне?
Он оглядел дом. Вопреки позднему часу многие окна были освещены. Как и предполагал Егор Иванович, Бардины бодрствовали, только Сережу и его дружка Колю Тамбиева сморил сон. Они уместились на одном диване, да еще нашлось место для многомудрого Тарле — ответы на все вопросы, которые поставило перед ними время, они пытались отыскать в книге о Наполеоне.
Гостей встретил Иоанн Бардин. С сыном поздоровался, облобызавшись по бардинскому обычаю, Бекетова заключил в объятия и прослезился.
— Бог видит правду, Сергунька… — сказал он, смахивая слезу.
— Видит, Иван Кузьмич, — сказал Бекетов. Он решительно отказывался называть старика Иоанном.
Яков протянул загорелую руку, блеснул молодыми зубами, они у него на всю жизнь молодые.
— Здравствуйте, Сергей Петрович, рад видеть вас.
— Здравствуй, Яков.
Мирон, все еще в штатском костюме — единственная реликвия, которую он вывез из Испании, не считая поврежденного плеча, — неожиданно появился перед Бекетовым, поклонился с радостной корректностью.
— Есть будете? Небось навоевались в охотку. Чтобы немца победить, нужно вон сколько силы!
— Да, силы… — снисходительно заметил Егор, оставив без ответа иронию брата.
Как ни голоден был Бекетов, он, прежде чем взять вилку, пододвинул солонку, потом перечницу, довел еду до вкуса — казалось, ему приятен был сам этот процесс.
Бардин принялся за еду сразу. Он ел и смотрел по сторонам, соображал. Видно, приемник был выключен не в самый спокойный момент — стулья вокруг приемника стояли, будто повздорившие, спинками друг к другу.
— Ты сыт, Бардин? — спросил Мирон и глубже опустился в кресло — любил человек глубокие кресла. Только глаза да чуб торчат. Не через соломинку ли, выведенную наружу, дышит человек?
— Да.
— А коли сыт, небось можешь слушать?
— Могу.
Егор огляделся. Две пары глаз, ненасытно-серых, бардинских, смотрели на него из противоположных углов комнаты.
— Мы здесь чуть не передрались до тебя, — сказал отец.
— Что так? — спросил Егор и взглянул на брата: отец, видно, имел в виду его, когда говорил о жестокой стычке.
— Я сказал, не грех нам подумать и о России! — произнес старший Бардин. — Вот говорят: «Родина Октября». Так ведь это же привилегия быть родиной Октября, а коли привилегия, значит, и все блага тебе. Только пойми, тебе, а не с тебя.
Мирон залился гневным румянцем.
— А мне, например, ничего не надо. Ты можешь это понять: ничего. Только дай мне возможность быть тем, кто я есть, и я готов все отдать, что имею. Даже, как в Испании, — жизнь. Готов.
— Эко хватил! — засмеялся Иоанн. — Да я и не отнимаю этой твоей… готовности!.. Молод Мирон, все еще молод! — произнес старик Бардин и направился в соседнюю комнату, но голос Мирона остановил его.
— Молод, значит? Молод? Это все, что ты можешь сказать! — заскрипел зубами младший Бардин. — У меня есть один знакомый, известный по Москве книголюб, человек немолодой, лет так… — он внимательно посмотрел на отца, точно примеряясь к его возрасту, — лет так за семьдесят! Так он говорит как-то мне: «Знаешь, Мирон, я научно установил, что в двадцать два года я был умнее».
Егор отставил тарелку, улыбнулся.
— Уже… начал учить батю? Хорошо! А я думаю: «Когда он начнет учить отца родного?» У меня это было в семнадцать, а у тебя в тридцать два? Ну что ж, лучше поздно… хорошо.
Яков смущенно откашлялся, произнес:
— Вот что, Мирон, отца не обижай…
— Если он отец, пусть не говорит глупостей.
— Тебе можно их говорить, а ему нельзя? — засмеялся Егор.
— Мне можно, — согласился Мирон, улыбнувшись.
Читать дальше